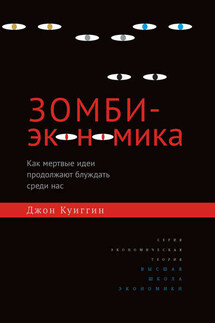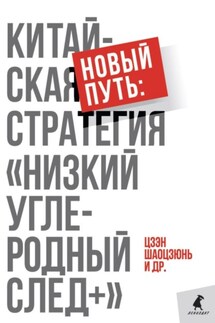Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 12
В книге достаточно смело утверждается, что глобальный кризис в сочетании с провалом попыток системной экономической трансформации в постсоветской России (а также в сочетании с десятилетиями провальных попыток стимулировать развитие в странах третьего мира) обнажил необходимость поиска нового курса для всей общественной науки. Теоретические и практические инструменты, использовавшиеся общественной наукой для решения проблем, связанных с этими процессами, просто не могли справиться с задачей, о чем свидетельствуют весьма плачевные результаты. Прежде всего это касается роли, которую культурная и историческая специфика играет в определении того, как акторы реагируют на изменения в наборе возможностей.
Суть вырисовывающейся перед нами теоретической проблемы можно описать словами Лайонела Роббинса, заявившего, что «преследование собственных интересов, не ограниченное соответствующими институтами, не гарантирует ничего, кроме хаоса»[4]. Это утверждение, взятое из труда Роббинса «The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy» («Теория экономической политики в английской классической политической экономии»), таит в себе три обширных исследовательских вопроса. Первый вопрос – о том, почему призывы к дерегулированию в духе Адама Смита и сопутствующая им вера в невидимую руку не всегда приводят к желательным результатам. Второй вопрос – о том, что понимать под «соответствующими институтами», которые могут предотвратить хаос. Третий вопрос – получим ли мы, если ответим на первые два вопроса, такую теорию, которая поможет нам планировать успешное целенаправленное вмешательство в рынок, обеспечивающее экономике эффективность?
Хотя в книге часто упоминаются основные силы, послужившие формированию явления, известного как «подъем Запада» (rise of the West), и причины того, почему этот опыт нелегко воспроизвести в третьем мире, эмпирические иллюстрации в основном взяты из опыта России. Причины этого просты. Глобальный финансовый кризис может быть плодотворным примером для обсуждения того, как законный собственный интерес способен выродиться в чистую жадность и привести к опустошающим последствиям. Однако он не сравнится со всеми теми уроками, которые можно вынести из опыта долгосрочной антирыночной политики в России, а также из результатов амбициозных намерений после распада СССР внедрить в стране радикальные «системные изменения».
Вспомним, что проект перехода СССР к рыночной экономике основывался на слепой вере в превосходство рынков над планированием в натуральном выражении. Вспомним также, что все те, кто отстаивал шоковые реформы, единогласно призывали к полному дерегулированию, называя его панацеей, которая высвободит здоровые силы рынка. Нам просто необходимо объяснить, почему фактическим результатом постсоветских реформ стали гипердепрессия, гиперинфляция, массовое обнищание населения и катастрофа в сфере здравоохранения[5].
Наше объяснение отчасти будет основываться на том факте, что корыстные краткосрочные интересы успешно коррумпировали процесс реформ, и вследствие этого фактически принятые меры сильно не дотянули до ожиданий реформаторов. Однако более фундаментальные причины провала мы будем искать в устройстве постсоветских реформ, связанном с «вашингтонским консенсусом» (о котором мы еще поговорим позже). Это устройство отражает те теоретические заблуждения, из-за которых мы должны пересмотреть свое понимание не только централизованного планирования, но и идеала функционирующей рыночной экономики