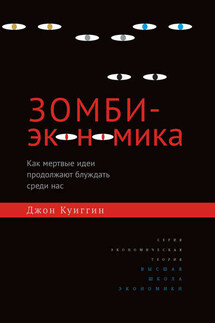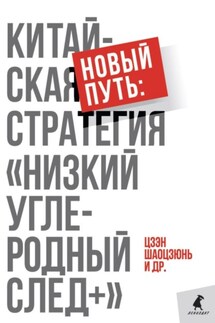Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 19
Поскольку жадность была присуща людям всегда, ее нельзя считать единственной движущей силой. Попросту говоря, константа не может быть сама по себе использована для объяснения вариации. Для объяснения требуется что-то еще; что-то, не исчерпывающееся провалом попытки при помощи формальных мер ограничить эгоистические действия, идущие вразрез с общим благом. Это что-то можно интерпретировать только как наличие (или отсутствие) норм, убеждающих акторов следовать золотому правилу: не поступать с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.
От Макса Вебера мы узнали, что существование «протестантской этики» благоприятствует экономической эффективности. Основой аргументации Вебера была идея, что хороший кальвинист должен принять набор норм, соответствующих вере. Если эти нормы, в свою очередь, приводят к накоплению богатства, то это дополнительный бонус, а не самоцель. Самоцелью является образ жизни[45]. В своей менее известной работе под названием «Протестантские секты и дух капитализма», основанной на впечатлениях от поездки по Америке в 1904 г., Вебер рассказывает о том, как люди, знакомясь друг с другом, могут упоминать о своей принадлежности к той или иной вере или церкви, чтобы получить определенный кредит доверия[46]. На территории индейских резерваций, которые посетил Вебер, правовые нормы были в лучшем случае слаборазвитыми. Взаимодействие в рамках сети, основанной на честности и верности, позволяло это компенсировать.
Не так давно Фрэнсис Фукуяма в своей книге о роли доверия и общественных добродетелей упомянул последствия упорных попыток североамериканских протестантов проповедовать свою веру в традиционно католических странах Латинской Америки. Фукуяма предположил, что эти попытки представляют собой «лабораторию для измерения последствий культурных изменений», и пришел к выводу, что переход граждан в пятидесятническую церковь «привел… к достижениям в области общественной гигиены, к увеличению частных накоплений, к повышению образовательного уровня, наконец, к росту дохода на душу населения»[47].
Чтобы не уйти с головой в дебаты о достоинствах крайне неоднозначного тезиса Вебера, давайте вернемся к более общему вопросу о роли норм как ограничений[48]. В частности, давайте отметим утверждение Сена о том, что «ориентированный на прибыль капитализм всегда полагался на поддержку со стороны других институциональных ценностей»[49]. В то время как роль религиозных норм в достижении координации и сотрудничества не подлежит сомнению, серьезному сомнению подлежит вопрос о том, до какой степени другие типы норм могут целенаправленно вводиться в общество для выполнения той же самой функции. Далее мы попытаемся решить эту непростую задачу, сравнивая деятельностный подход, типичный для экономической теории и нового институционализма, со структурным подходом, принятым в социологии и старом институционализме.
Не упоминая о новом институционализме и, возможно, не думая о нем, Сен точно описывает суть подхода: «Необходимо также взвешенное понимание того, как работают разные институты, как различные организации – от рынка до государственных институтов – могут пойти дальше краткосрочных решений и помочь сделать мир порядочнее»[50].
Вспоминая предупреждение Роббинса насчет дерегулирования и хаоса, мы можем спросить: что же определяет выбор акторов в пользу стратегий, нацеленных на создание добавленной ценности и способствующих общему благу, то есть делающих мир порядочнее, либо же в пользу стратегий перераспределительных, таких как коррупция, рентоориентированное поведение и захват государства, которые потребляют реальные ресурсы, душат экономическую эффективность и тем самым уменьшают общественное благо? В соответствии с тем, что было сказано выше, мы можем перефразировать этот вопрос и спросить: как можно одновременно поддержать преследование законных собственных интересов и ограничить неумеренное преследование интересов, движимое чистой жадностью?