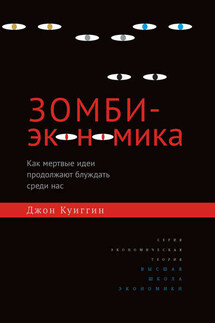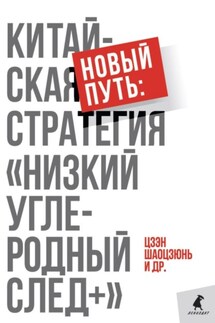Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 20
Это исключительно сложная задача потому, что разные подразделы общественных наук совершенно по-разному понимают мотивацию человеческой деятельности. В либеральной экономической традиции в качестве основной движущей силы деятельности обычно рассматривается дальновидное преследование собственных интересов. Однако с точки зрения социологии картина выглядит принципиально иначе. Юн Эльстер говорит в связи с этим об одном из «самых давних расколов между общественными науками», а именно о «противостоянии между двумя школами мысли, которые традиционно ассоциируются с Адамом Смитом и Эмилем Дюркгеймом, – между homo economicus и homo sociologicus». В то время как первый предположительно ведом инструментальной рациональностью, поведение второго диктуется социальными нормами: «Первого “тянет вперед” перспектива будущего вознаграждения, а последнего “подталкивают сзади квазиинерционные силы»[51].
Поистине фундаментальное различие между этими двумя подходами можно свести к различию между методологическим индивидуализмом экономической науки, которая рассматривает институты как правила игры, и методологическим холизмом социологии, которая считает, что мотивация человеческой деятельности содержится в социальных структурах. В следующих главах у нас будет еще много причин вернуться к этим вопросам. В частности, мы обсудим то обстоятельство, что при внимательном прочтении в трудах Адама Смита обнаруживаются идеи куда более глубокие, чем просто освобождение рынков.
Опыт России
Здесь мы перейдем к более конкретному случаю: к недавнему столкновению России с капитализмом. Это столкновение было отмечено беспредельной жадностью и бессердечием, а также паттернами демонстративного потребления, какие и не снились Великому Гэтсби. Полученный результат оказался настолько далек от запланированного появления современной демократической России, основанной на либеральной правовой рыночной экономике, что необходимо задать несколько очень серьезных вопросов.
Однако, прежде чем продолжить, отметим, что у нас нет намерения ни возвращаться к старым дебатам о том, что лучше – шоковая терапия или постепенные реформы, ни выдвигать версии того, что можно или нужно было сделать иначе. Напротив, мы планируем продолжать подчеркивать различие между образом радикальных реформ, который педалировали сторонники «вашингтонского консенсуса», и теми ограниченными мерами, которые были воплощены в реальность. Рассматривая образ радикальных реформ как чисто теоретическое упражнение с целью найти способ быстрого перехода от централизованного планирования к рыночной экономике, мы сталкиваемся с поистине критически важным вопросом, который почему-то так никто и не задал.
Это вопрос о том, какого логичного развития событий можно ожидать, если рынки, которые долгое время подвергались удушающему государственному контролю и эффективному подавлению, внезапно подверглись полному дерегулированию, да еще в условиях наличия крупных государственных активов, доступных для расхищения. Чего при этом стоит ждать от акторов: они воспользуются возможностью для создания предприятий, улучшающих управление страной и создающих добавленную ценность, либо они ударятся в беспредел и мародерство, желательно в сговоре с правительственными чиновниками? Ответ на этот вопрос зависит от наших убеждений относительно выбора между соблюдением правил и уклонением от их соблюдения.