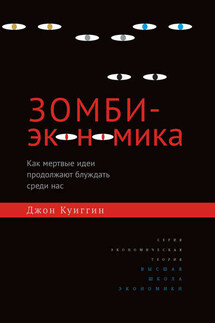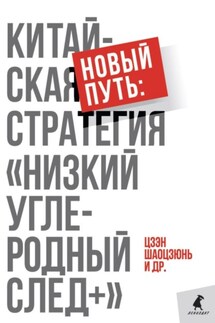Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 18
В годы между двумя мировыми войнами, движимый стремлением стимулировать реформы, выдающийся экономист-институционалист Джон Коммонс объявил, что хочет спасти капитализм, убедив его «производить прибыль, творя добро»[38]. Учитывая, что его главная работа по институциональной экономике была опубликована в 1934 г., не так уж и удивительно, что Коммонс нашел основания беспокоиться о развитии общей экономической ситуации[39]. Как выразился его коллега Уэсли Митчелл, Коммонс был весьма далек от уверенности в том, что капитализм на самом деле можно спасти, сделав его добрым[40]. Сам Коммонс писал, что считает «сомнительным, что в современных условиях можно решить, что является наилучшей политикой: русский коммунизм, итальянский фашизм или банковский капитализм Соединенных Штатов»[41].
После окончания Второй мировой войны рост популярности кейнсианства и построение государства всеобщего благосостояния, в том числе программа «Великое общество» Линдона Джонсона, привели к тому, что беспокойство о судьбе капитализма поутихло и уступило место надеждам на сближение рыночной и плановой систем. Параллельные тенденции усиления государственного контроля над рыночной экономикой на Западе и роста доверия к рынкам со стороны плановых экономик на Востоке некоторыми были восприняты как знак того, что эти две системы вскоре сольются в одну[42]. Однако к концу 1980-х годов, с распадом советской системы, эти надежды, в свою очередь, сменились предсказаниями о конце истории и верой в триумф капитализма[43].
С наступлением глобального кризиса круг замкнулся, и мы вернулись к беспокойству о неминуемом крахе капитализма и, может быть, даже к надеждам на этот крах. В качестве показательного примера можно прослушать длинное интервью с Эриком Хобсбаумом, транслировавшееся Би-Би-Си 18 октября 2008 г. Историк-марксист Хобсбаум, представленный слушателям как «один из выдающихся ветеранов британского левого фланга», признает, что он и другие левые испытывали определенную мрачную радость, видя, как сбываются их предсказания: «Это определенно крупнейший кризис капитализма с 1930-х годов… Как предвидели Маркс и Шумпетер, глобализация, присущая капитализму, не только уничтожает культурно-историческое наследие и традиции, но и несет с собой нестабильность. Она действует через серию кризисов. Это трагический эквивалент развала Советского Союза. Теперь мы знаем, что закончилась целая эпоха»[44].
Хотя заявление о конце эпохи было, возможно, некоторым преувеличением, оно отражало то, как кризис повлиял на общественное восприятие роли государства. Во многом так же, как Великая депрессия спровоцировала и кейнсианство, и «новый курс» Рузвельта, ипотечный кризис и последовавшая за ним приостановка межбанковского кредитования поспособствовали – во всяком случае, на какое-то время – дискредитации потока неолиберальной агитации за свободные рынки. Начавшись с монетаризма Милтона Фридмена, этот поток подготовил почву для программ массовой приватизации, а кульминацией его стало всеобщее дерегулирование глобальных финансовых рынков. Таким образом, шлюз оказался открыт, и при том, что общественные нормы все активнее поддерживали гедонистическое самообогащение, все было подготовлено для того, чтобы врожденная людская жадность привела к наступлению глобального финансового кризиса.
С учетом масштаба понесенных убытков – как в реальном секторе, так и на финансовых рынках – в обвинениях недостатка не было. Однако проблематика, стоящая перед нами сегодня, куда сложнее, чем грядущий конец капитализма. Ее истинную суть необходимо рассматривать в контексте вышеупомянутого вопроса Сена о том, какая экономическая наука нужна нам сегодня.