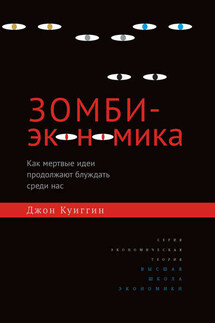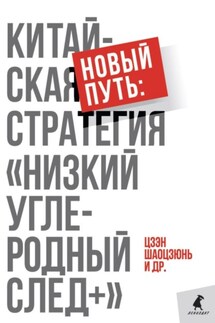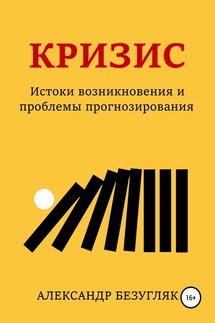Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 33
Вывод из российского примера можно разложить на два центральных вопроса. Во-первых, если нам случается наблюдать удивительную живучесть институтов на протяжении длительного времени, то располагаем ли мы теоретическими инструментами для объяснения того, как и почему институты могут воспроизводиться? Попытки ответить на этот вопрос породили рассуждения на тему множественных и неудачных равновесий, институциональных ловушек и возможной зависимости от пути. Мы обсудим эту тему в главе VI, где утверждается, что история играет большое значение в развитии экономики.
Во-вторых, если мы рассматриваем наблюдаемую преемственность институтов как проблему (чего явно не происходит в случае успешного «возвышения Запада»), то располагаем ли мы подходящими инструментами, чтобы найти способ вырваться из плохого равновесия? Попытки рассуждений на эту тему вынужденно строятся вокруг эндогенных, а не экзогенных факторов. Кроме того, в ходе таких попыток приходится иметь дело, скорее, с неформальной, чем с формальной, стороной институциональной матрицы страны, что возвращает нас к вопросу о том, почему и каким именно образом и история имеет значение.
Суть аргументации в том, что в течение нескольких десятилетий попытки богатых промышленных стран стимулировать развитие в странах третьего мира, а затем добиться перехода к рыночной экономике в странах бывшего СССР явно основывались на неполном понимании поставленных задач. Это, в свою очередь, привело к чрезмерной концентрации внимания на исправлении формальных институтов – от веры в то, что дерегулирования достаточно для стимуляции догоняющего роста, до активной поддержки программ структурной перестройки, спонсируемых МВФ, и до траты миллиардов долларов на помощь и льготные кредиты. Как мы уже знаем из приведенных выше цифр Мэддисона, результат всех этих усилий никак нельзя назвать успешным.
С точки зрения экономиста предметом спора тут является вопрос о том, до какой степени страны могут преуспеть в реализации своего полного потенциала. Техническая сторона вопроса может быть описана при помощи понятия границы производственных возможностей, идея которого в том, что страны могут реструктурировать состав производимой продукции путем простой переаллокации ресурсов. На основании производственных функций, определяемых технологией, граница производственных возможностей показывает, от какого количества одного блага придется отказаться ради производства лишней единицы другого блага. Теория общего равновесия предполагает, что страны могут свободно выбирать, в какой точке этой границы они желают находиться, а также – это особенно важно – что именно в этой точке они находятся всегда.
Можно даже не объяснять, что подобный подход не совпадает с фактами жизни. Чтобы несколько провокационным способом объяснить, почему так происходит, мы можем обратиться к классической статье Мансура Олсона «Крупные купюры на тротуаре: почему одни страны богаты, а другие бедны»[102]. Он начинает изложение с известного анекдота о том, как профессор и аспирант идут по улице. Когда аспирант нагибается, чтобы подобрать с земли лежащую купюру в 100 долларов, профессор удерживает его, говоря, что, если бы купюра была настоящей, ее бы уже давно подобрал кто-то другой. Это смешной анекдот – во всяком случае, для экономистов, – потому что он отлично иллюстрирует веру в возможности и максимизацию по всем направлениям, которая предполагает, что перезаключение контрактов будет продолжаться, пока все сделки не окажутся заключены, а все валяющиеся стодолларовые купюры – подобраны.