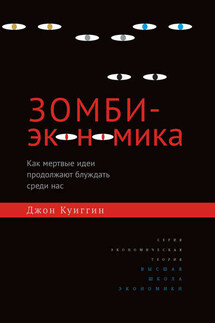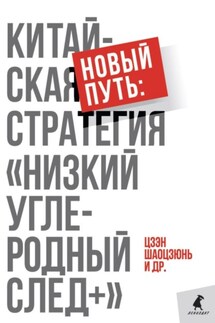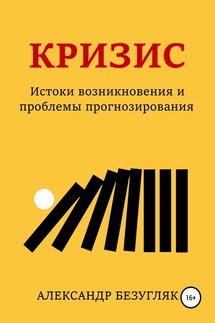Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 34
Олсон задается вопросом: почему в мире так много стран, в которых все тротуары усыпаны стодолларовыми бумажками, то есть стран, которые даже не начали приближаться к своим границам производственных возможностей? Он приводит ошеломляющую примерную оценку потерянных таким образом денег: «Суммы, утраченные в результате того, что бедные страны достигают только небольшой доли своего экономического потенциала, а богатые страны достигают его не полностью, измеряются триллионами долларов»[103].
Давайте прибавим к этой чистой потере тот факт, что по-настоящему высокие темпы роста никогда не наблюдаются в уже разбогатевших странах, а наблюдаются только в избранной группе бедных стран. В таком случае настоящей задачей становится поиск факторов, определяющих, какая из бедных стран успешно вырвется из ловушки бедности и какие страны с переходной экономикой смогут успешно дойти до намеченной цели – до либеральной рыночной экономики. Если этими факторами, как считает Олсон, действительно являются строительство правильных институтов и проведение правильной политики, то весьма соблазнительно звучит мысль, что «лучшее, что общество может сделать, чтобы увеличить свое благосостояние, – это поумнеть»[104]. Впрочем, что конкретно это означает, в статье так и не объясняется.
Несколько иной подход к этой же проблеме мы находим в работе Джоэля Мокира о роли технологической креативности в экономическом прогрессе. В то время как Олсона интересуют причины, по которым страны не достигают своего полного производственного потенциала, Мокир задается вопросом о том, в каких условиях технологический прогресс может увеличить производственный потенциал страны, что экономисты понимают как отодвигание границы производственных возможностей.
В своей книге Мокир отмечает, что шансы на успех распределяются между странами крайне несправедливо: «Уровень жизни, на который может рассчитывать среднестатистический человек, родившийся, скажем, в деревне в Камеруне или в городе на Яве, совсем не похож на уровень жизни, на который может рассчитывать тот, кто родился в городе Гринвиче в штате Коннектикут или в норвежском Осло»[105].
На первый взгляд это замечание кажется тривиальным, однако в аргументации Мокира есть аспект, весьма далекий от тривиальности. Настаивая, что технологический прогресс равнозначен бесплатному обеду в том смысле, что представляет «увеличение производительности, несоизмеримое с увеличением усилий и издержек, необходимых для его достижения», он бросает вызов экономической ортодоксии: «Сейчас меня интересует вопрос не о том, почему одни люди креативнее других, а о том, почему существовали и существуют общества, в которых креативных людей больше, чем в других»[106].
Тем самым подведя итог бесконечного обсуждения проблемы, как объяснить технологическое развитие как социальный феномен, содержащийся в том, что мы можем назвать культурным аспектом институциональной матрицы общества, Мокир решительно переносит эту проблему в институциональное поле. Он также цитирует историка экономики Росса Томпсона, говоря, что «технический прогресс сродни Богу Его много обсуждают, одни ему поклоняются, другие его отвергают, но мало кто его понимает»[107].
Если мы согласимся, что объяснение должно основываться, скорее, на эндогенных, чем на экзогенных факторах, мы немного продвинемся вперед, но до ясности будет еще далеко. Как утверждает Ландес, на проблему экономической неразвитости можно смотреть с двух разных сторон, и его аргументы вызывают в памяти то подобие системы убеждений в экономической науке, о котором мы говорили выше. Ландес пишет, что есть два подхода к поиску эндогенных объяснений: «Один подход говорит, что мы так богаты, а они так бедны, потому что мы такие хорошие, а они такие плохие; то есть мы трудолюбивые, знающие, образованные, эффективные и производительные, а они – наоборот. Другой говорит, что мы так богаты, а они так бедны, потому что это мы такие плохие, а они такие хорошие; мы жадные, беспощадные, агрессивные эксплуататоры, в то время как они слабые, невинные, добродетельные и хрупкие жертвы»