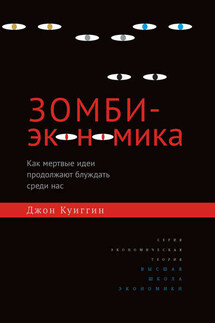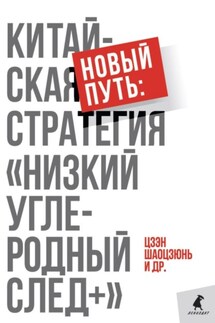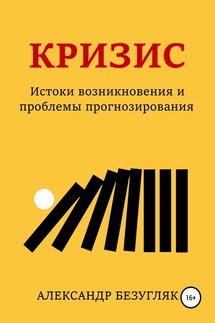Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 35
Если мы предполагаем, например, что глубинные причины неравномерного экономического развития нужно искать в Брюсселе, то мы ясно представляем, что требуется, чтобы найти выход из ситуации. Приняв как факт, что страны третьего мира больше выиграют от отмены протекционистской сельскохозяйственной политики в Европе, чем от получения компенсаторной денежной помощи из-за рубежа, мы можем заключить, что выход заключается в отказе от корыстных интересов и в последующих объяснениях с раздраженными французскими фермерами. Хотя на практике это решение может упереться в непреодолимые политические препятствия, из-за которых нам выгоднее продолжить выплату неразвитым странам компенсации на миллиарды евро налогоплательщиков, теоретически ситуация не представляет сложности.
Если же мы предполагаем, что корень проблемы заключается, например, в политической культуре Дар-эс-Салама, то мы упираемся в крупную теоретическую проблему. Если стабильному снижению депривации, как предполагает Лоуренс Харрисон, на самом деле мешают причины, заложенные в той части институциональной матрицы, которую можно назвать «культурой», то перед нами встает сложнейшая задача: «Если какие-то культурные ценности действительно являются фундаментальными препятствиями на пути прогресса – если они помогают объяснить неподатливость проблем бедности и несправедливости во многих странах третьего мира, – то у нас нет выбора, кроме как способствовать культурным изменениям»[109].
Это утверждение явно переносит нас на второй из двух уровней, поскольку касается того, в какой части институциональной матрицы следует искать решение стоящей перед нами проблемы, однако остается неясным, что делать дальше. Переключить внимание с формальных причин на неформальные интуитивно кажется правильным решением, но этот подход открывает перед нами ящик Пандоры, полный теоретических и методологических осложнений.
Если даже временно мы закроем глаза на все возможные возражения, связанные с тем, что у нас нет морального права призывать к культурным изменениям, все равно нам никуда не деться от того проблемного факта, что политические меры, которые необходимо принять для достижения этих изменений, весьма туманны. Харрисон не только признает, что «с культурой действительно сложно иметь дело как на политическом, так и на эмоциональном уровне». Он также отмечает, что с ней «трудно иметь дело на интеллектуальном уровне из-за проблем, связанных с определениями и количественными измерениями, а также из-за того, что причинно-следственные связи между культурой и прочими переменными, такими как политика, институты и экономическое развитие, действуют в обе стороны»[110].
Возвращаясь к случаю России, давайте вспомним уверения Гринспена, что переход России к рыночной экономике провалился из-за отсутствия в стране рыночной культуры и инфраструктуры. Вот как он продолжил свою мысль: «Та капиталистическая культура и инфраструктура, которая поддерживает рыночную экономику в капиталистических странах, создавалась на протяжении многих поколений: законы, традиции, нормы поведения, а также разнообразные предпринимательские профессии и методы работы, которые в экономике централизованного планирования не играют заметной роли»