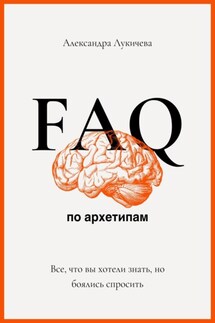Ничего страшного. Сказать «да» несправедливому - страница 34
13 декабря. Ко всем имеющимся симптомам на фоне терапии у Олеси добавился еще и жидкий стул. Врач попросил меня собрать анализ. И вот, в туалете я поняла, что мое обоняние пропало напрочь. Я сказала об этом на посту, и через полчаса в отделении было полно эпидемиологов. У нас с Олесей взяли экспресс-тест на Covid-19, но забыли подписать пробирки. Один из тестов показал слабоположительную реакцию. И с учетом моей потери обоняния решили, что он мой.
Мы обедали в палате, когда ворвалась Оксана Петровна, очень злая. Не проходя вглубь, почти из коридора она начала кричать на меня:
– Ты почему без маски?!
– Так я же в палате, – ответила я, отставив тарелку с едой.
– Ты положительная! Сейчас нужно решать вопрос, кто будет лежать с ребенком. У вас обеих возьмут нормальный тест, и если он подтвердится еще и у нее, то я выписываю вас в инфекционку. Собирай вещи, тебе здесь оставаться нельзя! А вы почему сидите без маски?! – начала кричать она на Лену.
Что заставляло ее волноваться и срываться на нас, я не понимала. В чем мы виноваты – тоже было непонятно. Мы лежали больше месяца в закрытом отделении. Посторонним контактом из внешнего мира для нас был только медперсонал. К тому же экспресс-тест имеет большую долю погрешности, да и пробирки не были подписаны.
На всякий случай я надела на себя маску, перчатки и халат. Олеся сидела напуганная, не понимая, что происходит.
Со мной провела беседу врач-эпидемиолог, расспросив о симптомах, заболеваниях ранее. Она сказала, чтобы мы не предпринимали никаких действий до прихода результатов нормального теста, не экспресса, несмотря на давление Оксаны Петровны и Елены Степановны.
Тесты пришли отрицательные, но нас решили изолировать в отдельную палату этажом выше.
В палате было все, чтобы пациент ее не покидал: холодильник, туалет, душ, стол, стул, кресло, даже телевизор и две раздельные кровати. Но температура там была около восемнадцати градусов, потому мы оделись потеплее. Вещи полностью я распаковывать не стала, рассчитывая, что мы тут остановились ненадолго.
К тому времени Олесины показатели крови после химии закономерно упали, она уже получала уколы в плечо для выброса лейкоцитов из костного мозга в кровь. В тот вечер нам было назначено еще переливание крови и тромбоцитов. Я видела, как это происходит у других пациентов: всегда гладко, с пристальным вниманием. Каждые пятнадцать-двадцать минут сопровождающий должен измерять температуру и давление и заносить данные в табличку.
Для нас это были первые трансфузии, и тут я впервые стала свидетелем реакции на переливание. Через двадцать минут после завершения процедуры у Олеси начался сильный озноб и резкий рост температуры. Медсестра как раз была у нас, она сходила за жаропонижающим, и Олеся заснула после насыщенного дня.
В тот период она вообще много спала и была слаба. У нее случались срывы при виде любого человека в медицинском костюме. Болел шов, мучил кашель, ей делали уколы, руки были в следах от катетеров. Кормила я ее едва ли не через силу, она почти не играла, разве что слушала книги, которые я ей читала. А еще – на подушке начали оставаться ее волосы.
В ту ночь я не могла заснуть. В отдельной палате никто не контролировал соблюдение режима, поэтому я села в кресло и впервые за месяц с небольшим позволила себе поплакать.
Чего мы добились за месяц лечения? На кровати спал ребенок, но совершенно не такой, каким я привезла его в больницу. Две биопсии, химия, все последствия… И чего ради, если даже диагноз не подтвержден? Динамики нет, показатели низкие, она и я морально раздавлены.