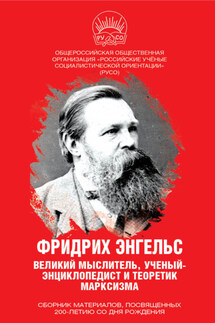Николай II. Бремя самодержца. Документы, письма, дневники, фотографии Государственного архива Российской Федерации - страница 6
9 января 1905г., вошедшего в историю как «Кровавое воскресенье», Николай II находился в Царском Селе. Огонь по мирному шествию петербургских рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю об улучшении жизненных условий простых людей солдаты открыли, следуя приказу великого князя Владимира Александровича. «Господи, как больно и тяжело!»[35] – записал в этот день в дневнике Николай II. Но общественное мнение возложило всю ответственность на самого царя. Кайзер Вильгельм II, выражая сожаление о случившемся в Петербурге, в свойственной ему нравоучительной манере писал своему августейшему кузену[36]: «Так как у этих, сбитых с толку и невежественных людей, большинство которых привыкло смотреть на царя как на отца и говорить ему „ты“, сложилось убеждение, что им можно подойти ко дворцу царя и рассказать ему о своих желаниях, то высказывается мнение, что было бы полезно, если бы царь принял некоторое количество их, собранных на площади и оцепленных войсками и, окруженный свитой и высшим духовенством с крестами, попробовал бы с балкона Зимнего дворца поговорить с ними как отец, прежде чем начнет действовать военная сила. Возможно, что таким путем удалось бы совершенно избегнуть кровопролития или по крайней мере уменьшить его размеры. <…> В результате недовольный наблюдатель,– даже, может быть, и подданный,– все более и более склонен сваливать на плечи царя ответственность за все, чем он недоволен. В обычное время это не беда и в конституционных государствах не так опасно, так как министры короля должны заделывать все бреши и защищать его особу. Но в России, где министры не могут оградить священной особы правителя, потому что всем известно, что они являются только орудиями в его руках, подобные волнения, вносящие тревогу и беспокойство в русские умы и побуждающие последние ставить в вину правителю все, что случается неприятного, являются очень серьезной опасностью для главы государства и его династии, потому что ведут к их непопулярности»[37]. До 1917 г. и до «невыученных уроков» Николая II еще долгих 12 лет…
Грандиозные протесты прокатились во всей стране. В феврале 1905г. член боевой организации эсеров Иван Каляев убил в Кремле великого князя Сергея Александровича. Революционный террор проник, по сути, в императорский дом. «Государь и обе императрицы неутешны, что не могут отдать последнего долга покойному: покинуть Царское им слишком опасно»,– написал в дневнике великий князь Константин Константинович[38]. Все великие князья были уведомлены письменно, что им не только нельзя ехать в Москву, но и запрещено бывать на панихидах в Казанском или Исаакиевском соборах. В то время, когда жизнь Ники и Аликс была пронизана страхом как за свою собственную судьбу, так и за жизнь и здоровье наследника, осенью того же 1905 г. происходит роковое для них знакомство с Распутиным.
Между тем революция набирала обороты: «Везде по всей России беспорядки, забастовки, митинги и т.п.; одна грусть и позор»[39]. Ширились стачки и крестьянские волнения, все настойчивее становились призывы к низвержению самодержавия и установлению демократической республики. Именно С. Ю. Витте, которого по праву в дальнейшем стали называть «крестным отцом» российских политических свобод, подготовил проект и был одним их тех, кто убедил императора подписать манифест 17 октября, по которому подданные Российской империи получили свободу слова, собраний, вероисповедания, а также обещание выборов в законосовещательный орган – Думу. К С. Ю. Витте присоединился великий князь Николай Николаевич (младший), категорически требовавший подписи императора. Александра Федоровна имела противоположное мнение, она считала любое ограничение самодержавия непростительной ошибкой. Душой Николай был полностью на стороне Аликс, и только обстоятельства заставляли его действовать иначе. Император был вынужден пойти на уступки, и манифест, гарантировавший политические перемены, был издан, однако в душе Николай II не мог полностью смириться с необходимостью нарушить вековые традиции русского самодержавия. Во время открытия I Государственной думы, «когда депутаты после торжественного акта в Зимнем дворце отправились на пароходах в Таврический дворец, чтобы начать свое первое заседание, императрица-мать Мария Федоровна застала сына и его жену глубоко потрясенными в будуаре Александры Федоровны, утешавшей мужа и повторявшей, однако, что она всегда была против созыва Думы. „„Я все это предвидела… предвидела… я говорила…“ – твердила она. По лицу моего сына,– описывала эту сцену близкой ей придворной даме Мария Федоровна,– текли слезы… Вдруг он сильно ударил по подлокотнику кресла и крикнул: „Я ее создал, и я уничтожу… так будет““»