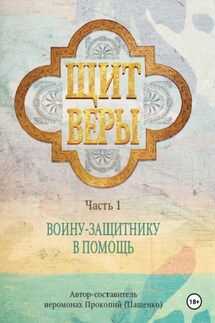О проблемах созависимости - страница 13
Так, иные современные авторы отмечают, что современный человек пытается найти свою идентичность, но не в положительном измерении, а лишь в оппозиции к существующему тренду. Но если положительного содержания жизни не найдено, то свою идентичность человек пытается выстроить, примыкая «к виртуальной группе с трендовыми ценностями», то есть, примыкая к иному тренду. Но что у человека остаётся за душой? Не та ли пустота «от которой спасаются регулярной сменой идентичностей, офшоризованных практик и мантр об аутентичности?»
Человек, не имеющий основы для осмысления личности, в мечте о идентичности, приходит к мельканию череды активностей, к «перформативной аутентичности». То есть, конструируя личную жизнь, он приходит к персональному перфомансу. Его жажда подлинного существования реализуется с помощью подборки «популярных рекомендаций на уровне мотивационных картинок и не раз упоминавшейся self-help литературы, уверенно предлагающей различные инструкции по тому, как стать автором своей жизни».
Такой человек хватается за тренд «выстраивания границ», но что он пытается защитить этими границами? Свой очередной поход в кино? Границы современного человека как будто отличаются лишь «субъективными предпочтениями и затратностью» (то есть кто-то следует правилу не есть в заведениях того класса, который он считает недостойным себя. Кто-то приватность видит в том, что покупает спортивную одежду только определённой фирмы). «Суть остаётся одна: где-то в глубине беспокоящая нас жизнь настойчиво требует какой-то приватности, но мы не знаем, что это и как, а настырный Гугл-поиск подсовывает лишь приватные чатики, веб-камеры, приват-сервера и закрытые сейшены»[20].
Человек страдает от другого человека или от какого-то явления. Чтобы обрести опору, начинает ходит на тренинги, где его обучают сепарации. И в итоге он иногда «заигрывается» в сепарацию в фиксации на «себе любимом». На этих путях он рискует прийти к одиночеству, унынию, выход из которых иногда начинает искать в связях и явлениях, подобных тем, от которых бежал в начале.
Надспорный путь Питерсон видит «в индивидуальном сознании и опыте». С одной стороны, человек уходит в конфликт (например, с окружением). Но, с другой стороны, пытаясь вырваться из конфликта путём отрицания, сталкивается с психологическим и социальным распадом (реализует сепарацию). Как же человек может освободиться от этой ужасной дилеммы? Питерсон даёт такой ответ: человек может освободиться «через возвышение и развитие личности и через готовность каждого взять на себя бремя Бытия», вступить на путь деятельных, основанных на высших смыслах поступков. «Мы, каждый из нас, – считает он, – должны говорить правду, исправлять то, что пришло в негодность, ломать и заново отстраивать то, что устарело. Это требует многого. Это требует всего. Но альтернатива – ужас авторитарных убеждений, хаос разрушенного государства, трагическая катастрофа необузданного мира природы, экзистенциальный страх и слабость бесцельного человека – очевидно хуже». «Возможно, – продолжает он, – если бы мы жили правильно, нам бы не пришлось обращаться к тоталитарной определённости, чтобы защититься от сознания собственных недостаточности и невежества (под тотальной определённостью можно, по всей видимости, понимать те же тренинги, в рамках которых всем даётся упрощённая доктрина в отношении всего). Если люди будут «жить осмысленной жизнью. Если каждый из нас будет жить правильно, вместе мы будем процветать» (эта мысль, в том числе, является главной и для данного текста).