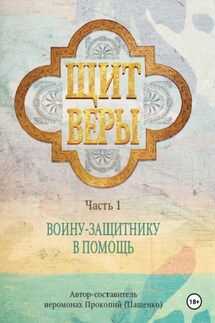О проблемах созависимости - страница 2
Здесь явление созависимости не отрицается, но вводится в контекст более широкий, чем тот, который даётся в срезе некоторых психологических интерпретаций. Ставится вопрос насчёт того, что речь идёт о частном варианте более широкой проблемы, которая встречается и там, где нет зависимого родственника. Иногда люди как бы глохнут по отношению к жизни. У них словно замирает в душе то, что, по идее, должно стать её высшим этажом. И в этом состоянии они крайне уязвимы перед внешним воздействием, перед манипуляцией, жизненными ударами, скорбью.
Теория созависимости в секулярном прочтении рассказывает о матерях, которые «срывают» телефоны, пытаясь контролировать жизнь своих детей на работе или в реабилитационном центре. Да, такие случаи есть. Но можно ли данные, полученные по этой группе, переносить на тех матерей, которые в разумном ключе переживают о своём ребёнке?
Да, есть люди, которые сухо и без любви в традициях американской менеджмент-системы пытаются контролировать своих близких. Речь, возможно, отчасти идёт и о тех, кто был выращен индустрией книг, пропагандирующих личную эффективность. И в эту личную эффективность не вписывается немощь, скажем, выпивающего мужа. Да, рождается жажда контролировать. Но этот контроль обусловлен всем культурным фоном англосаксонской парадигмы, включающей, в том числе, и идею контроля над всем миром.
Так, героиня сериала «Это мы» готовит трём детям индивидуальные завтраки, пытается быть эффективной матерью. И вот она на повышенных тонах говорит выпивающему мужу: «Я не позволю тебе всё испортить!»
То есть можно предположить, что на фоне развивающейся self-help индустрии «контролирующие» люди выглядят как естественное дополнение к ландшафту. В рамках этого тренда некоторые люди воспринимают себя как самореализующиеся бизнес-проекты, в которые нужно самоинвестироваться – то есть инвестировать в самих себя время и силы. Сама повестка такого типа призывает рассматривать других как некое приложение «к себе любимому».
И такой настрой – если не почти повсеместен, то, по крайней мере, не слишком редок. С экранов несутся речи про «творцов свой судьбы», которые должны «сделать мир лучше», таким, каким они его видят (а мир был спрошен, хочет ли он быть таким, каким видят его эти «кузнецы своего счастья»?). То есть можно задать вопрос: созависимость ли учит людей так себя вести? Или они пропитываются общим трендом, который как-то уж сверхвнятно напоминает гордость (как её описывают в своих аскетических трактатах духовные авторы Православия)?
Да, есть «контролирующие» особы, никто не отрицает этого факта. Но проблема видится в том, что данные, полученные по группе «контролирующих» родственников, начинают распространять на всех остальных. Причём при игнорировании того, что есть и иные модели внутрисемейных отношений.
Да, есть забота со знаком «минус», когда родители фокусируют всю жизнь вокруг ребёнка (по типу, описанному в книге «Похороните меня за плинтусом», на основе которой снят одноименный фильм). Но есть забота со знаком «плюс», когда родители в здоровом ключе сопереживают ребёнку. И вторые в рамках концепции созависимости рискуют быть названы больными наравне с первыми.
Да, есть люди, воспитанные в определённой системе координат, которые шагу не могут ступить, если не видят выгоды. Да, возможно, кто-то, помогая другому, тем самым пытается поднять свою самооценку, компенсировать травмы, отыграть детские сценарии, получить психологическую выгоду и пр. Но все ли люди, проявляющие заботу, охвачены духом так называемого «эмоционального капитализма»?