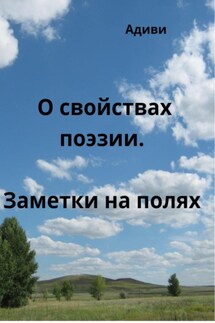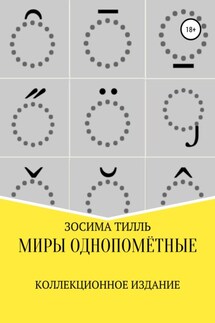О свойствах поэзии. Заметки на полях - страница 7
***
"Я слушаю.. но я не слышу моря
твоей души".
Именно такие тихие слова производят во мне некое подобие взрыва. Так звучит Поэзия с большой буквы. Весь этот цикл хорош, но это стихотворение захотелось тут же выучить наизусть. Оно несёт в себе нечто парадоксальное: зримо до дрожжи показывает съёжившийся в себе самом мир, но при этом само стихотворение дарит непонятно каким образом обратное ощущение. Ощущение натянутой до предела тетивы лука. Напряжение достигается такой силы, что вот-вот и… стрела будет выпущена. И произойдёт обратное – съёжившийся уже практически до нуля мир начнёт тут же разворачиваться и на глазах вырастать. Не странно ли?
Позволю себе роскошь ещё раз вслух прочесть этот маленький шедевр поэтического искусства:
Я слушаю.. но я не слышу моря
твоей души.
И птиц не видно в небе беспробудном.
И берег пуст.
Песок спокоен.. никогда он не был
мечтою сыт.
Ни доброты, ни праведного гнева..
Как мелко всё.
Мне кажется, – ушёл в недоуменьи
сам сатана..
***
Никак не могу решить, с чего начать. Багаж у Вас, не побоюсь этого слова, огромен. Одни только «Стихари» чего стоят! А я ещё не добрался до Агасфера и других Ваших слитков. И, наверное, не скоро доберусь. Во-первых, потому, что Ваши стихи (а это, бесспорно, стихи, а не их искусная имитация) обладают достаточно плотным телом. И созерцать их или просто выслушивать – не получится. Мысль движется в них так же, как передвигается тело, попадая в чрезмерно плотную среду. Так обычно и бывает, когда впервые знакомишься с неизвестной тебе языковой поэтической системой. Сначала изучаешь её, затем приноравливаешься, а уж после – обвыкаешься. А потому по-настоящему сильное эстетическое наслаждение приходит только на третьей стадии, что, впрочем, не мешает и на первой оценить их первородство. Не буду говорить за все стихи сразу, но в таком объёмном цикле, как «Стихари», нет ничего вторичного. Они свежи в равной степени как по форме, так и по содержанию.
Что ещё сказать? Выскажу, пожалуй, выношенную далеко не вчера мысль о том, что философ может и не быть поэтом, но поэт просто обязан быть философом. Поскольку без собственного мировоззрения поэт невозможен. Даже с оговоркой, принимая во внимание классификацию Марины Ивановны, в которой она разделяет поэтов с историей и поэтов без истории. Но даже поэты «без истории» (я называю их созерцающими), если они настоящие поэты, а не рядовые рисовальщики с натуры, носят в себе, хоть и застывшую, но, тем не менее, свою, пусть и простейшую философскую картину мира.
Тем более приятно (потому что – неожиданно) встретиться лицом к лицу с полновесным и радостным поэтом, который ещё и является профессиональным философом. Делаю акцент на сочетании слов «радостный поэт». И вот почему. Потому что мужская поэзия поэтов-философов меня откровенно не радует. Совсем не по нутру мне этот многозначительный надменно-печальный взор из-под бровей и поверх голов, который не скрываясь читается и в строках и между строк: все проходит, и это пройдёт. Пожалуй, общим эпиграфом для этой унылой философско-мужской поэзии я бы поставил то ли сожаление, то крик отчаяния одного из их плеяды: «Господи! Зачем я хотел знать так много? Теперь я не умру счастливым».
Конечно, идущему трудной дорогой Мысли, непременно открываются не только огромнейшие просторы, которые потрясают взор, но и истины, которые тяжелы (а для многих на этом этапе и неподъёмны) для восприятия. Они сгибают иного мыслящего в дугу. И здесь нужно иметь бесстрашие. Не бесшабашное бесстрашие человека, который деловито устанавливает табурет под крюком с верёвкой, а то бесстрашие, которое дается пониманием правильности вышестоящих законов общей Системы, до которой многим, скажем так, подсистемам, входящим в Неё, ещё расти и расти. Так ведь на что же ещё и тратить вечность!