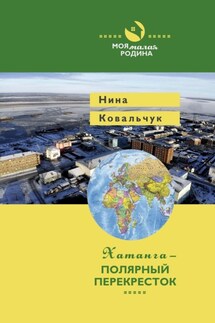Октябрический режим. Том 1 - страница 48
Ему вторил Шраг, также говоривший о произволе, о нагайках и усмирении крестьян.
Тогда вновь заговорил Стахович. Не отрицая произвола властей, оратор напомнил, что на девяносто с лишним смертных казней пришлось 288 убитых и 383 раненых агентов власти, причем из этих 671 лишь 13 были высшими чиновниками, а остальные были простыми городовыми, кучерами, сторожами.
«Нет, я уверен, что как бы ни было ничтожно число членов Думы, которые здесь со мной согласятся, я уверен, что огромное число русского народа скажет, что пора осудить политические покушения. Русский народ скажет, что в будущей России нет места для проповеди насилий и убийства, нет культа, требующего живых жертв. Русский народ скажет, что это не борьба, что это не служение ему и его благу, это – душегубство, и он его не хочет».
Граф Гейден предложил баллотировать поправку Стаховича с осуждением политических убийств поименно. Стахович поддержал эту мысль, но, поскольку такое голосование было бы слишком медленным, предложил хотя бы внести в протокол имена тех, кто остался в меньшинстве. Кареев, Родичев и Набоков проявили великодушие. Первые двое заявили, что они согласны голосовать поименно, т.к. не боятся высказать свое мнение. Набоков согласился со Стаховичем, что желающие могут вносить свое имя в протокол. Так и было решено. Затем обычной баллотировкой вставанием поправка Стаховича была отвергнута. Дума отказалась выразить порицание террору. «Я не смел (порицать), – признавался М. М. Ковалевский. – Вся моя репутация погибла бы, если б я сказал».
На следующем заседании (8.V) 34 члена Г. Думы подали секретарю заявление о своем согласии с поправкой Стаховича об осуждении политических убийств. Среди подписавшихся под этим заявлением были и дворяне, и крестьяне, и казаки, и даже один священник. Между прочим, заявление подписали Мартьянов – лесопромышленник и Белоусов – управляющий пароходством: оба они были крестьяне.
Проект адреса обсуждался в трехдневном заседании, точно описанном Стаховичем: «мы по 12 часов в день разбирали, перечисляли разные крупные нужды, наболевшие раны, свежие в памяти народной, все, чем увлекались за последнее время собрания, митинги, все газеты». Все, что можно было высказать дурного в адрес правительства, было высказано. Тут были и преступления, прикрытые «священным именем Монарха», и кровь, скрытая «под горностаевой мантией, покрывающей плечи Государя Императора», и «кровавый разгул произвола», и «гекатомбы истерзанных тел приниженного и голодного, доведенного до отчаяния народа», и «убийцы», которые «измышляют все новые пытки, все новые казни, все новые насилия над голодным и стремящимся к свободе, земле и справедливости народом», и даже «безумно высокие цены на чай и сахар, на спирт и керосин, на сукно и ситец, искусственно вздутые ради обогащения казны и торгово-промышленнаго класса». Звучали требования суда над правительством, которое ввело чрезвычайные законы, и над властями, которые исполняли эти беззаконные требования.
В те дни «Temps» написал, что если не найдется в Думе оратора с трезвым языком, то в России к анархии бюрократической прибавится еще «анархия парламентарная».
Трехдневные споры почти не изменили текст адреса, только кое-где усилив его и сделав еще резче.
Профессор Кареев предложил, ни много ни мало, такую поправку: вместо слов «русский народ» написать в адресе «весь народ, населяющий Российскую Империю», чтобы не утеснять права других народов России. «…гораздо лучше будет не употреблять выражешя "русская земля", потону что территория Poccийской Империи не принадлежит исключительно только русской национальности и, следовательно, мы эту территорию русской землей назвать не можем».