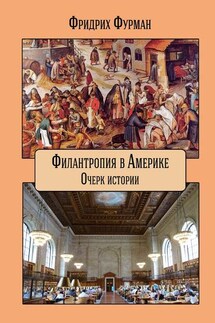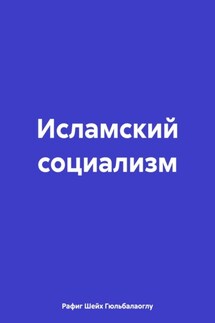Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм - страница 25
Гаус: До 1940 года.
Арендт: Да.
Гаус: Потом, во время Второй мировой войны вы поехали в Соединенные Штаты Америки, где вы сейчас работаете профессором политической теории, а не философии…
Арендт: Спасибо.
Гаус: …в Чикаго. Вы живете в Нью-Йорке. Ваш муж, за которого вы вышли в 1940 году, тоже профессор, философии, в Америке. Академическое сообщество, а вы снова к нему принадлежите после разочарования 1933 года, – международное. Еще я хотел бы спросить вас, скучаете ли вы по догитлеровской Европе, которой уже никогда больше не будет. Когда вы вернулись в Европу, что, по вашему мнению, остается прежним и что безвозвратно утеряно?
Арендт: Европа догитлеровского периода? Я бы не хотела вернуться, скажу я вам. Что остается? Остается язык.
Гаус: Много это значит для вас?
Арендт: Много. Я всегда сознательно отказывалась терять родной язык. Я всегда поддерживала определенную дистанцию как по отношению к французскому, на котором я потом говорила очень хорошо, так и по отношению к английскому, на котором я сейчас пишу.
Гаус: Я хотел вас об этом спросить. Сейчас вы пишете на английском?
Арендт: Я пишу на английском, но я никогда не теряла чувство дистанции по отношению к нему. Есть огромная разница между родным языком и любым другим. Для себя я определяю это необычайно просто: немалую часть немецкой поэзии я знаю наизусть на немецком; эти стихи всегда живут в глубине моего сознания. Я никогда не смогу сделать этого снова. Я делаю такие вещи на немецком, какие никогда не позволю себе в английском. На самом деле иногда я делаю их и на английском тоже, потому что стала смелее, но в целом я сохраняю определенную дистанцию. Немецкий язык – это главная вещь, которая осталась и которую я всегда сознательно хранила.
Гаус: Даже в самое горькое время?
Арендт: Всегда. Я думала: что делать? Это же не немецкий язык сошел с ума. И во-вторых, родному языку нет замены. Люди могут забыть родной язык. Это правда, я с этим встречалась. Есть люди, которые говорят на новом языке лучше, чем я. Я все еще говорю с заметным акцентом, я часто говорю не идиоматически. Они могут делать все эти вещи правильно. Но они делают это на языке, в котором одно клише погоняет другое, потому что продуктивность его, доступная родному языку, исчезает, когда забываешь этот язык.
Гаус: Случаи, когда родной язык был забыт: считаете ли вы, что это следствие вытеснения?
Арендт: Да, очень часто. Я видела это в людях как результат шока. Знаете, решающим был не 1933 год, по крайней мере, для меня. Решающим был день, когда мы узнали про Освенцим.
Гаус: Когда это было?
Арендт: Это было в 1943 году. И мы сначала не поверили – хотя я и мой муж всегда говорили, что от них можно было ожидать чего угодно. Но мы не поверили, потому что с военной точки зрения это было ненужно и необоснованно. Мой муж – бывший военный историк, он понимает что-то в этом деле. Он сказал, не будь легковерной, не принимай эти истории за чистую монету. Они не могут зайти так далеко. И потом, спустя полгода, мы поверили, потому что у нас были доказательства. Это был настоящий шок. Прежде мы говорили: хорошо, есть враги. Это совершенно естественно. Почему у людей не может быть врагов? Но это было другое. Тут же как будто разверзлась пропасть. Потому что мы думали, что все можно как-то исправить, поскольку в политике в определенный момент все можно исправить. Но не так.