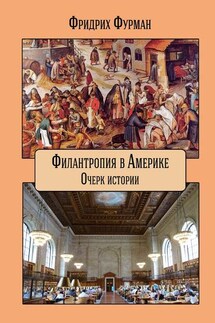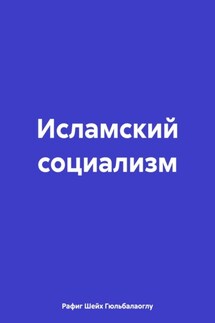Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм - страница 27
Арендт: Прежде всего, я должна, при всем дружелюбии, заметить, что вы сами стали жертвой этой кампании. Нигде в моей книге я не обвиняю еврейский народ в непротивлении. Другие делали это на процессе Эйхмана, а именно господин Хауснер из израильской прокуратуры. Я назвала такие вопросы, обращенные к свидетелям в Иерусалиме глупыми и жестокими.
Гаус: Я читал книгу. Я знаю это. Но часть критики основывается на тоне, каким написаны многие пассажи.
Арендт: Ладно, это другое дело. Что я могу сказать? Кроме того, я не хочу что-то говорить. Если люди думают, что можно написать об этих вещах торжественным тоном… Смотрите, есть люди, которые обиделись – и в какой-то степени я могу это понять, – что, например, я все еще могу смеяться. Но я действительно считала, что Эйхман – дурак. Я расскажу вам: я читала стенограмму его допроса, три тысячи шестьсот страниц, читала ее очень внимательно, и я не знаю, сколько раз я смеялась – и громко! У многих такая реакция вызвала неприязнь. Я ничего не могу с этим поделать. Но я знаю одну вещь: за три минуты до смерти я, возможно, снова засмеюсь. И это, говорят они, тон. Что тон голоса особенно ироничен – полная правда. Тон же в этом случае действительно личный. Когда люди упрекают меня в обвинении еврейского народа, это злобная ложь и пропаганда, и ничего больше. Однако недовольство тоном – это недовольство лично мною. И я не могу с этим ничего поделать.
Гаус: Вы готовы смириться с этим?
Арендт: Да, готова. Что еще можно сделать? Я не могу сказать людям: вы меня неправильно поняли и на самом деле в душе у меня происходит то-то и то-то. Это смешно.
Гаус: В связи с этим я бы хотел вернуться к вашему заявлению. Вы сказали: «Я никогда в моей жизни не „любила“ людей или общества: ни немцев, ни французов, ни американцев, ни рабочий класс или что-то в этом роде. Я в действительности люблю только моих друзей, и это единственный род любви, который я знаю и в который верю, – это любовь к конкретным людям. Более того, эта „любовь к евреям“ кажется мне, поскольку я сама еврейка, чем-то довольно подозрительным»[49]. Можно я кое-что спрошу? Как политически действующее существо, не нуждается ли человек в привязанности к группе, привязанности, которая до некоторой степени может называться любовью? Вы не боитесь, что ваше отношение может быть политически бесплодным?
Арендт: Нет. Надо сказать, это другое отношение, которое политически бесплодно. В первую очередь, принадлежность к группе – это естественное состояние. Ты всегда принадлежишь к некоей группе по рождению. Но принадлежать к группе так, как вы подразумеваете, в другом смысле, означает создать организованную группу или присоединиться к ней, а это что-то совсем другое. Этот вид организации связан с отношением к миру. Люди, которых организуют, имеют нечто общее, что обычно называется интересами. Непосредственно личное отношение, где можно говорить о любви, конечно, существует прежде всего в настоящей любви и в определенном смысле в дружбе. Там напрямую обращаешься к личности, независимо от отношения к миру. Так, люди в самых противоположных организациях могут оставаться друзьями. Но если вы путаете эти вещи, если вы приносите любовь на стол переговоров, грубо говоря, я считаю это фатальным.
Гаус: Вы находите это аполитичным?
Арендт: Я нахожу это аполитичным. Я нахожу это безмирным. И я действительно считаю это огромной катастрофой. Я признаю, что евреи – классический пример безмирного народа, сохранявшегося тысячелетиями.