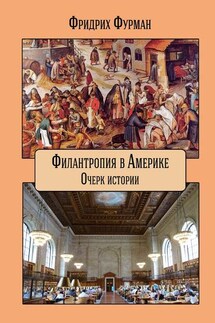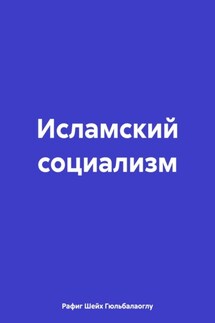Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм - страница 28
Гаус: «Мир» понимается в смысле вашей терминологии как пространство для политики.
Арендт: Как пространство для политики.
Гаус: Таким образом евреи – аполитичны?
Арендт: Я бы не сказала об этом именно так, потому что общины бывали, конечно, до определенной степени также политическими. Еврейская религия – это национальная религия. Но понятие политического было применимо только с большими оговорками. Эта безмирность, от которой евреи страдали, пребывая в рассеянии, и которая – как у всех народов-парий – создает особенное тепло среди тех, кто к ним принадлежит, изменилась с основанием государства Израиль.
Гаус: Было ли что-то утеряно, то есть что-то, о чем вы жалеете?
Арендт: Да, за свободу платят дорого. Специфически еврейская человечность, основанная на их безмирности, была чем-то очень прекрасным. Вы слишком молоды, чтобы это испытать. Но это было что-то очень прекрасное, это стояние вне всех социальных связей, полная открытость ума и отсутствие предубеждений, которое я испытала, особенно с моей матерью, так же относилось ко всему еврейскому сообществу. Конечно, многое с тех пор было потеряно. За освобождение приходится платить. Я однажды сказала в моей речи о Лессинге…
Гаус: в Гамбурге в 1959 году…[50]Арендт: Да, там я сказала, что «человечность… никогда еще не переживала час освобождения даже на минуту». Видите, что это произошло и с нами.
Гаус: Вы не хотели бы изменить это?
Арендт: Нет. Я знаю, что за свободу надо платить высокую цену. Но я не могу сказать, что мне нравится за нее платить.
Гаус: Госпожа Арендт, не считаете ли вы своим долгом – публиковать все, к чему вы пришли в результате политико-философских размышлений или социологического анализа? Или есть причины молчать о чем-то, что вы знаете?
Арендт: Да, это очень тяжелая проблема. Она лежит в основе единственного вопроса, который меня интересует во всей полемике о книге об Эйхмане. Но это вопрос, который никогда бы не встал, если бы я не подняла его. Это единственный серьезный вопрос, все остальное – пустая пропаганда. Итак, fiat veritas, et pereat mundus [пусть даже рухнет мир, но истина должна восторжествовать]? Но книга об Эйхмане де-факто даже не касалась этих вещей. Книга на самом деле не задевает ничьих легитимных интересов. Она была только задумана такой.
Гаус: Вы должны оставить вопрос о том, что легитимно, открытым для обсуждения.
Арендт: Да, действительно. Вы правы. Вопрос о том, что легитимно, все еще открыт для обсуждения. Я вероятно под «легитимностью» имею в виду нечто другое, чем еврейские организации. Но давайте предположим, что на кону были реальные интересы, которые даже я признаю.
Гаус: Можно ли умолчать об истине?
Арендт: Могла ли я? Да! Конечно, я могла написать это… Но смотрите, кто-то спросил меня, если я принимала участие в том или этом, разве я не должна была написать книгу об Эйхмане по-другому? Я ответила: Нет. Я столкнулась с выбором: писать или не писать. Потому что можно держать язык за зубами.
Гаус: Да.
Арендт: Не всегда надо говорить. Но сейчас мы пришли к вопросу, который в XVIII веке называли «правда факта». Это действительно вопрос правды факта. Это не вопрос мнений. Исторические науки в университетах являются хранителями правды факта.
Гаус: Они не всегда были лучшими.
Арендт: Нет. Они потерпели крах. Они контролируются государством. Мне рассказывали, что историк заметил по поводу какой-то книги об истоках Первой мировой войны: «Я никому не дам запятнать память о таком духоподъемном времени!» Вот человек, который не знает, кто он такой. Но это не так интересно. Де-факто он хранитель исторической правды, правды фактов. И мы знаем, как важны эти хранители на примере большевиков, где история переписывалась каждые пять лет и факты остаются неизвестными: например, что был когда-то Троцкий. Это то, чего мы хотим? В этом заинтересовано правительство?