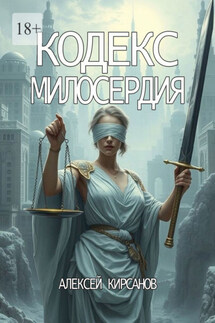Оракул боли - страница 26
«Я задыхаюсь здесь, – сказал он, и голос его сорвался. – Я смотрю, как ты умираешь каждый день. Заранее. И не от болезни, а от… от этого!» Он махнул рукой в сторону ее стола, заваленного доказательствами конца. «Я не могу больше быть твоим свидетелем. Или твоей медсестрой. Или… или твоей следующей статистикой в этом твоем проклятом исследовании».
Она молчала. Что можно было сказать? Просить остаться? Зачем? Чтобы он видел, как она разваливается на части? Чтобы стал свидетелем ее позора, немощи, окончательного падения? Она любила его. Именно поэтому не могла просить.
Он ушел на следующее утро. Без сцен. Тихо. Сложил вещи в один чемодан – аккуратно, будто уезжал в командировку. Она стояла в дверях кухни, сжимая в руке горячую чашку, чувствуя, как мелкая дрожь бежит по ее предплечьям. Не от болезни. От ледяного ужаса одиночества.
«Я… Я оставлю ключи под ковриком, когда найду съемное, – сказал он, не глядя ей в глаза. Его голос был ровным, пустым. – Позвони, если… если что-то случится. Серьезное».
Он открыл дверь. Пахнуло сыростью и городом. Он не обернулся. Дверь закрылась с мягким щелчком. Гулкий звук пустоты ударил ее по ушам. Она опустилась на стул, чашка выскользнула из дрожащих пальцев и разбилась о пол. Темные брызги кофе пошли по светлому ламинату, как трещины по хрупкому льду. Она не стала убирать. Просто сидела и смотрела на лужу, на осколки. Отражение в них было искаженным, разбитым. Как она сама.
Одиночество сжало горло холодным кольцом. Квартира, которая раньше была убежищем, теперь зияла пустотой. Каждый звук – скрип паркета, гул холодильника – отдавался эхом в этой пустоте, напоминая о том, что она осталась одна. Совсем одна. Перед лицом приговора, перед лицом «Вердикта», перед лицом неумолимого будущего, которое она сама изучала как патологоанатом.
Социальная смерть «Знающих» перестала быть абстрактной статистикой. Она видела ее каждый день в клинике. Коллеги, которые отводили взгляд. Пациенты, которым она когда-то помогала, теперь смотрели на нее с жалостью и страхом – не как на врача, а как на носителя чумы. Но настоящий удар, окончательно добивший иллюзию о том, что можно «успеть» или «подготовиться», ждал ее позже, на выходе из метро.
Шел мелкий, назойливый дождь. У выхода, под жалким пластиковым козырьком, сидел человек. Обернутый в грязный, промокший плащ, поджав под себя ноги. Рядом – потрепанная картонная коробка с жалкими пожитками и пустая банка для подаяний. Лицо было скрыто капюшоном, но руки… Худые, дрожащие, с синюшными ногтями, лежали на коленях. И эти руки совершали мелкие, непроизвольные, червеобразные движения. Хаотичные. Знакомые.
Елена замерла. Ледяная струя пробежала по спине. Хорея.
Она машинально шагнула ближе, врач в ней пересилил отчаяние. И тогда она увидела лицо. Грязь, борода, глубокие морщины, но… черты. Интеллигентный лоб, некогда ясный, а теперь мутный взгляд. Она знала это лицо. Доктор Петр Ильич Левин. Блестящий нейрофизиолог. Ее бывший пациент. Три года назад «Прогноз» выдал ему приговор: хорея Гентингтона (классическая, до «Плюса»). Начало симптомов через 4—5 лет. Он был полон планов – успеть закончить монографию, передать лабораторию ученикам, съездить с женой в Италию.
А теперь… Он сидел у входа в метро. Дрожащий, грязный, с пустым взглядом. Социальная смерть наступила раньше биологической. Гораздо раньше.