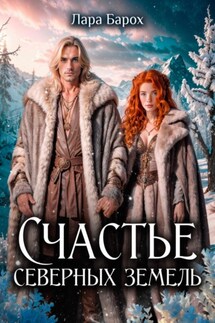Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - страница 5
Не то чтобы Моисей дал лишь обрядовый закон, а Христос признавал только нравственный; заповедь любви к ближнему встречается уже у Моисея (Лев. XIX, 18, ср. Втор. VI, 5; XXX, 16 – о любви к Богу, а также у пророков, например, Ис. LVIII, 7), и обрядовые предписания сохраняют силу у Христа (по крайней мере, согласно изложению в Евангелии от Матфея; у Марка и Луки не утверждается непреходящая обязательность закона); но ценностное соотношение обоих элементов становится обратным вследствие принципиального значения, которое Христос придаёт заповеди любви (Мф. XXII, 34 и далее; Мк. XII, 28 и далее; Лк. X, 25 и далее), и вследствие имени Отца, которым он (в Ветхом Завете есть лишь намёки на это) обозначает отношение человека к Богу как отношение сердечной близости. Он отчасти прямо ссылается на ветхозаветные места (на 1 Цар. XV, 22 и XXI, 6, Ос. VI, 6 указывают Мф. IX, 13; XII, 3); пророческое описание мессианского царства, где царит мир и радость и нет больше распри (Ис. IX и др.), включает мысль о всеобъемлющей любви; в ветхозаветном обете назорейства лежал принцип превосходства над обычной праведностью через воздержание; возможно, также принципы и жизнь ессеев («Grundr.», I, §63) оказали некоторое (переданное через Иоанна Крестителя) влияние.
Иисус, ученик Иоанна, с момента крещения от Иоанна, возвещавшего Мессию, ощущал себя Мессией, не уступающим в достоинстве даже Моисею (ср. Втор. XVIII, 15), и что ему дана непреходящая власть, вечное царство (Дан. VII, 13—14). Он носил в себе призвание и имел мужество основать Царство Божие, собрать вокруг себя труждающихся и обременённых, выйти за пределы всего существующего и учить и жить по собственному нравственному сознанию и нуждам народа, к которому испытывал сострадание, а не просто по преданному преданию. Над формами восприятия, унаследованными от ориентализма, и отсутствием развитых понятий о труде, самостоятельности, собственности, праве и государстве преобладает принцип чистой любви к людям.
Жизнь Иисуса предстаёт как воплощение совершенной праведности в любви, с которой он действует для своих, в безусловном противостоянии прежним вождям народа и всем враждебным силам, и в его смерти, добровольно принятой при бесстрашном исповедании мессианского достоинства и уверенном ожидании возвращения. Молитва о прощении судей и врагов подразумевает несокрушимое сознание своей абсолютной правоты, и то же сознание сохранялось у его учеников после его смерти. В Царстве Божием, основанном Мессией, вместе со святостью должна пребывать и блаженство; молитва Иисуса направлена на то, чтобы святилось имя Божие, пришло Его Царство, исполнилась Его воля, и чтобы вместе с грехом устранилась и земная нужда; труждающимся и обременённым обещается облегчение через снятие гнёта чужой тирании и собственной бедности, болезни и греховности, через отношение сыновства Богу и надежду вечного блаженства для участников Царства Божия. Возможность возвышения к чистоте сердца и нравственному совершенству, образу совершенства Бога, Небесного Отца, Иисус предполагает у тех, к кому обращена его проповедь, так же непосредственно, как и сам сознаёт её в себе.
В логическом следствии нравственного учения и жизни Иисуса заключалась отмена моисеева ритуального закона, а вместе с тем и преодоление национальной ограниченности иудаизма. Эти следствия, намеченные самим Иисусом как выводы из его принципа, впервые были явно проведены Павлом, который при этом полностью осознавал свою зависимость от него («уже не я живу, но живет во мне Христос», Гал. II, 20), и на основании личного опыта, в догматическом обобщении, он нашел для всех людей вообще силу к исполнению чистого нравственного закона и путь к истинной духовной свободе в вере во Христа.