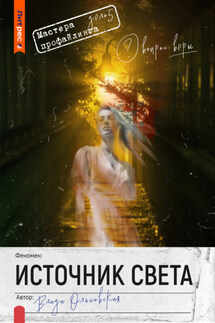Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - страница 7
Если же, напротив, вера не обязательно включает любовь (как может казаться на основании Рим. IV, 19; X, 9 и др.) и выступает лишь как новый установительный элемент, христианская замена иудейского участия в жертвах и обрядах (то есть если божественное оправдание верующих есть лишь «синтетическое суждение», вменение чужой праведности), то облагорожение нрава остается требованием, но не предстает как неизбежное следствие веры. Нравственное превосходство всякого, верующего в реальную смерть и воскресение Христа и считающего себя оправданным Его заслугами, перед людьми, не имеющими такой веры, оказалось бы произвольным утверждением, вовсе не подтверждаемым опытными фактами. А если, несмотря на вмененную грешнику праведность, движение к подлинной праведности не последует, то божественное оправдание неисправимого наряду с осуждением других выглядело бы как произвол, пристрастие и несправедливость, а со стороны человека открывался бы простор для легкомысленного злоупотребления прощающей благодатью как индульгенцией на грех.
Когда позднейшие мыслители пытались перевести мистико-религиозное воззрение Павла на соумирание и совоскресение со Христом в догматические понятия, именно эта трудность (которую в новое время пыталась разрешить шлейермахеровская догматика, определив оправдывающую веру как усвоение совершенства и блаженства Христа, то есть как преданность христианскому идеалу) выступала все яснее и порождала многообразные богословские и философские дискуссии, о чем уже свидетельствует Послание Иакова. Древнекатолическая церковь пришла к сопоставлению нравственного закона и теоретически понимаемой веры, также подчиненной закону. В августинизме, Реформации, а затем и в новейшей теологической и философской этике снова и снова в новых формах проявляется диалектика, вытекающая из воззрений Павла.
Признавая любовь (всё более возвышаемую до чистоты понятия через идеализирующее обобщение требований даяния бедным и общинного владения имуществами верующих) как высшее в христианстве, Павел в своих посланиях всё же преимущественно говорит о вере, отменяющей закон; в центр же изложения любовь выдвигается в посланиях Иоанна и в одноимённом (четвёртом) Евангелии. Бог есть любовь (1 Ин. IV, 8; 16); Его любовь проявилась через послание Сына Его, дабы все, верующие в Него, имели жизнь вечную (1 Ин. IV, 9; Ин. III, 16); пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём; заповедь Христа есть любовь; она есть новая заповедь; любящий Бога должен любить и брата своего; любовь к Богу проявляется через соблюдение Его заповедей и хождение во свете (Ин. XIII, 34; XV, 12; 1 Ин. I, 7; IV, 16; 21; V, 2). Верующие рождены от Бога; они ненавидимы миром; мир же лежит во зле (Ин. XV, 18 и др.; 1 Ин. V, 19). На место паулинистской борьбы против отдельных конкретных сил, особенно против продолжающегося действия Моисеева закона, здесь встаёт борьба против «мира» вообще, против всех направлений, враждебных христианству, против иудеев и язычников с их неверием и враждой к Евангелию. Противопоставление избранного народа иудейского язычникам преобразовалось в противопоставление верующих во Христа, ходящих во свете, неверующим и детям тьмы, а временное противопоставление αἰὼν οὗτος и ἐκεῖνος – в постоянно существующее противопоставление мира и Царства Божия, которое есть царство духа и истины. Вера в то, что Иисус есть Христос, есть сила, побеждающая мир. То, что через Моисея дан закон, а через Иисуса – благодать и истина (Ин. I, 17), предстаёт уже как устоявшееся убеждение. Закон упразднён, религиозная жизнь более не питается и не наполняется жертвами и обрядами; на освободившееся место наряду с практической деятельностью любви встаёт теоретическая спекуляция, к которой вера развивается далее.