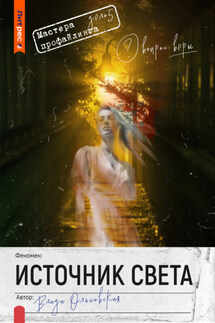Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - страница 9
Однако александрийская теософия не признавала и не могла признать возможность воплощения Божественного Логоса, поскольку считала материю нечистой, а нисхождение души в смертное тело – следствием ее вины. Для нее поэтому было невозможно и отождествление Мессии с Логосом: она все еще ожидала Мессию, тогда как Иисус сознавал Себя таковым. Она не нашла для одухотворения Закона принципиально положительного выражения в заповеди любви к людям; не сделала из этого одухотворения (павловского) вывода, что с пришествием Мессии для всякого верующего в Него древний Закон в его буквальном смысле более не действителен; не допустила, чтобы на место обрядового почитания Бога, открывшегося иудеям, встало почитание Бога в духе и истине.
В силу этих глубоких различий александрийская философия остается на стороне дохристианской эпохи и может считаться лишь одной из предварительных ступеней христианства – однако она же должна быть признана и последней, ближайшей к нему ступенью. (Ср. Grundr. I, §63.)
Монотеизм как мировая религия мог возникнуть только из иудаизма. Победа христианства – это победа освобожденной от национальной ограниченности, смягченной и одухотворенной религиозной концепции еврейского народа над политеизмом. Эта победа аналогична предшествовавшей ей победе эллинского языка, искусства и науки в царствах, основанных Александром Великим и впоследствии подпавших под власть Рима, с той лишь разницей, что борьба на религиозном поле была тем ожесточеннее и продолжительнее, чем более устойчиво ценных элементов содержали в себе политеистические религии.
Как только национальная замкнутость уступила место оживленному общению народов и единству мировой империи, постепенно на смену сосуществованию различных направлений культуры неизбежно должно было прийти господство того из них, которое было самым мощным, возвышенным и развитым – то есть господство греческого языка, искусства и науки, римского права (а для Запада – и римского языка), а также либо греко-римской, либо (обобщенной, денационализированной) иудейской религии.
Как только иудеями (особенно вне Палестины) было осознано несоответствие сохранения позитивного Закона, при сохранении верности монотеизму, и как только для отмены Закона, ставшей необходимой в силу исторических обстоятельств, была найдена авторитетная фигура, соответствующая их религиозному сознанию и одновременно удовлетворяющая потребность неиудеев в независимости от реального иудаизма – а именно богочеловеческий Мессия, стоящий выше Моисея и Авраама (даже если Сам Он в Своем историческом явлении не провозгласил этой отмены, возможно, даже не желал ее, а лишь Своими новыми требованиями, выходящими за рамки позитивного Закона, дал точку опоры для нее), – как только эти условия совпали (что впервые произошло у Павла), началась борьба религий.
Новому направлению было труднее утвердиться внутри иудаизма и среди почитателей Мессии, державшихся буквы авторитета Того, Кто лично жил среди них, чем внутри эллинизма – хотя и он уступил не без ожесточенного сопротивления. Более того, подчиняясь, эллинизм одновременно наполнил христианство существенными элементами самого себя, так что в определенном смысле справедливо можно назвать христианство (хотя оно и происходит прежде всего из иудаизма) синтезом, выходящим за пределы и иудаизма, и эллинизма. Эти два фактора, наряду с другими новыми мотивами, затем внутри самого христианства вступили в противостояние, первым успешным преодолением которого стал католицизм.