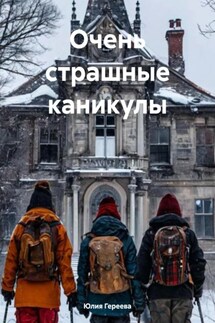Основы истории философии. Том 4. Часть 1. Философия современности - страница 60
Канту, чтобы на основе морального сознания обосновать реальность объектов идей разума посредством своих постулатов, потребовалась «Критика чистого разума», которая оставляла для этих объектов «идей разума» открытое место по ту сторону всего конечного, являющегося лишь явлением. Шлейермахер же, поскольку он доказывает правомерность не объектов религиозных представлений, а субъективных душевных состояний, выражаемых через эти представления, не нуждается в открытом месте для бесконечного за пределами конечного, может оставить конечному его объективную реальность, отражающуюся в нашем сознании, и, подобно Спинозе (от которого он, однако, существенно отличается признанием ценности индивидуальности), находит само бесконечное и вечное внутри конечного и преходящего.
В противоположность идеалистической спекуляции Канта и Фихте Шлейермахер требует реализма, который, конечно, не должен ограничиваться рассмотрением конечного в его обособленности, но должен рассматривать всё в его единстве с целым и вечным (по выражению Спинозы: sub specie aeterni); чувствовать себя единым с этим вечным – и есть религия. Если человек не становится единым с вечным в непосредственном единстве созерцания и чувства, он остаётся в производном единстве сознания навеки отделённым от него.
«Потому – что станется с высшим проявлением спекуляции наших дней, завершённым и округлённым идеализмом, если он не погрузится вновь в это единство, чтобы смирение религии дало его гордыне предчувствовать иной реализм, нежели тот, которому он так смело и с полным правом себя подчиняет? Он уничтожит вселенную, хотя будет казаться, что хочет её создать, он низведёт её до простой аллегории, до ничтожного призрака односторонней ограниченности своего пустого сознания. Принесите же со мной почтительно локон волос в жертву манам святого, отвергнутого Спинозы! Его проник высокий мировой дух, бесконечное было его началом и концом, вселенная – его единственной и вечной любовью; в священной невинности и глубоком смирении он отражался в вечном мире и видел, как и сам он был её прелестнейшим зеркалом; он был полон религии и святого духа, и потому стоит он одиноко и недостижимо, мастер в своём искусстве, но возвышаясь над профанным цехом, без учеников и без гражданских прав».
Наука – это бытие вещей в человеческом разуме; искусство и воспитание к практике – это бытие нашего разума в вещах, которым он придает меру, форму и порядок; религия, необходимое и незаменимое третье по отношению к этим двум, есть непосредственное сознание единства разума и природы, всеобщего бытия всего конечного в бесконечном и через бесконечное, всего временного в вечном и через вечное. Благочестие как направленность души к вечному есть внутреннее возбуждение и настроение, на которое указывают все проявления и деяния боговдохновенных мужей; оно не создает, но сопровождает знание и нравственное действие; однако с ним не могут сосуществовать безнравственность и мнимое знание. Всякое развитие подлинного искусства и науки есть также воспитание к религии. Истинная наука есть завершенное созерцание, истинная практика – самостоятельно порожденное воспитание и искусство, истинная религия – чувство и вкус к бесконечному. Желать обладать одним из этих элементов без другого или воображать, что обладаешь им таким образом, есть дерзновенное заблуждение.