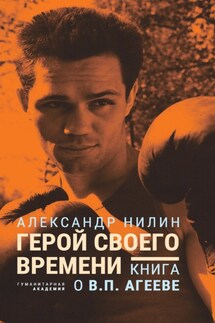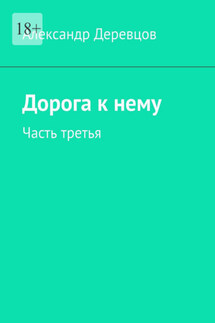Переделкино: поверх заборов - страница 47
Впереди у человека, полного сил, вознесенного признанием выше дома на Котельнической, была целая жизнь.
Но, видимо, опыт этой единицам доступной жизни показался ему несопоставимо беднее военной, если ни строкой он его не коснулся.
Что-то другое, по-моему, лежит за этим.
Ограничусь признанием, что во всем опубликованном Симоновым после тридцатилетия мне как соседу (не по даче уже, а по времени, как говорил Юрий Трифонов, сосед Симонова по дачному поселку) не хватает эгоцентризма.
По моим наблюдениям, писателя писателем делает именно эгоцентризм, в котором простым смертным негоже сознаваться, а писателю даже положено.
За общественные заслуги Симонову в годы борьбы с космополитизмом (в которую он не мог не быть втянут как функционер, как видный литературный чиновник) разрешено было выглядеть (в те времена выглядеть считалось опаснее, чем быть) западником.
Я не видел его на улице Горького в чем-то сверхмодно иностранном, с несоветской стрижкой, что поразило Юрия Нагибина; я не видел его в редакции “Нового мира”, когда вышел он из кабинета без пиджака – брюки держатся на подтяжках, сидевших на главном редакторе так же ловко, как вчера еще – портупея, что молодому тезке Симонова Ваншенкину казалось американским стилем (возможно, фильм по симоновской пьесе “Русский вопрос”, поставленной сразу пятью московскими театрами, уже вышел на экраны и у Ваншенкина сложилось именно такое представление о внешнем виде американских журналистов).
Было еще, наверное, что-то иностранное в деталях одежды, когда приходил он в “Коктейль-холл”, но я не ходил тогда в “Коктейль-холл”. Я располагал лишь наблюдениями дачного соседа – и помню волнение соседей постарше, когда к Симонову приехал английский драматург Джон Пристли.
Дача Петровых – Симонова к нам выходила тылом, а фасад с верандой, как и у нас, впрочем, повернут был к лесу на участке. И потом на фотографии в какой-то книжке я видел Пристли у Симонова возле террасы.
У нас шла пьеса Пристли “Опасный поворот” – и воспринимали его коллеги-дачники как писателя с мировым именем.
Прекрасно помню разговоры, что у Симонова есть винный погреб – и я представлял себе, где он располагается.
Наши гаражи-сторожки стояли возле заборов – и забора от улицы, и забора, разделявшего участки, – спиной к стене. И у сторожек были тамбуры. Вот под тамбуром с той стороны и располагался винный погреб Симонова.
Когда Симонов съехал с дачи, я сейчас же пошел смотреть, что осталось от погреба, – и ничего, кроме битой пустой посуды, не увидел.
Ребенком я мало о чем в подробностях был информирован. Не то было время, чтобы лишним забивать детям голову, – и брякнуть могут, и на ненужные рассуждения раннее знание может навести.
Я не знал до девяностых годов, например, что дачу, куда во время войны вселили Константина Михайловича, занимал – еще до Евгения Петрова – Пастернак.
И поменял место дачного пребывания – переехал ближе к речке Сетунь – Борис Леонидович не случайно: не хотел жить рядом с домом репрессированного приятеля Бориса Пильняка, в чьем коттедже на первом этаже долгие годы жила наша семья.
Когда я узнал, что Симонов стал жить в том же доме, где жил Пастернак, я сначала пытался вообразить, что думал поэт Симонов, очутившись некоторым образом на месте Бориса Леонидовича (легко было догадаться, что возвышение Симонова пришлось на постепенную опалу Пастернака).