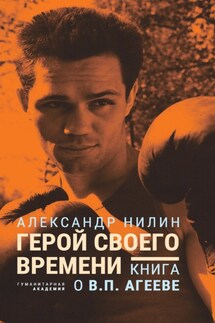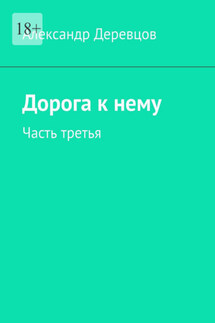Переделкино: поверх заборов - страница 48
Теперь же мне кажется, что ни о каком Пастернаке он тогда вообще не думал – не занимал его вовсе Пастернак. Он думал о правоте дела, которым был занят, – и не отвлекался на мысли ни о чем довоенном (кроме, может быть, мыслей о Валентине Васильевне).
Заместитель Симонова по “Новому миру” Александр Кривицкий говорил про Пастернака: “Ну как же крупный поэт может, чтобы в стихах не было ничего о войне, о народе?”
Значит, не в стихах дело (хотя и в стихах: почти наизусть помню, как герой стихотворения Пастернака, увидев из машины зарево салюта, “шествует” потом “на пункт проверочно-контрольный узнать, какую новость чествуют зарницами первопрестольной”) – не в стихах, так в прозе: не станет же Кривицкий спорить с тем, что “Доктор Живаго” не о народе.
“Доктор Живаго”, между прочим, сочиняемый одновременно с политическим циклом стихов Симонова и началами его прозы, и столкнет Бориса Леонидовича с Константином Михайловичем в “Новом мире”, когда главный редактор исторически отклонит публикацию романа – и никогда от сознания правильности своего решения не откажется.
И в неприятии “Доктора Живаго” Симонов искренен – они с Пастернаком вроде бы в одной стране жили, но ощущали ее совершенно по-разному.
Я не раз по ходу рассказа о Симонове повторял – и повторю еще, возможно, как много он работал (и это, кстати, тоже стало общим местом мнения о нем).
Но разве мало работал Пастернак?
Только вот замечаю, что, вспоминая Пастернака, мы говорим о стихах (и прозе, кто читал), а не об исключительном его трудолюбии.
Я думаю, и эстетически Пастернак Симонову интересен не был. Скорее уж, Владимир Луговской (потом описанный в “Двадцати днях без войны” с превосходством человека, храбро воевавшего, перед тем, кто не смог преодолеть животного страха, но все равно сочувственно, с любовью за прошлое, может быть). А из мировых знаменитостей – Киплинг, конечно.
В довоенном симоновском “Генерале” у венгра-генерала “в кофейнике кофе клокочет” – и это не отзвук ли киплинговского “солдат, учись свой труп носить, учись…” чему-то там еще. “Учись [вот к чему я] свой кофе кипятить…” забыл на чем (про генерала у Симонова помню лучше).
Конечно, ни в стихах, ни в прозе военного времени – никакого кофе от Киплинга. В русской армии кофе не пьют – представьте себе, что Василий Теркин после переправы станет пить кофе, а не попросит у начальника второй рюмки, раз переправлялся “в два конца”.
Симонов съехал с арендованной дачи в свою, купленную у Федора Гладкова на другом конце Переделкина – уже не в городке писателей, а ближе к резиденции патриарха и железной дороге; и расчет произошел (помню разговоры об этом в поселке) прямо перед денежной реформой – и Гладков, не успевавший распорядиться вырученной от продажи суммой, злился на Симонова.
Корней Чуковский огорчался, что писатели в Переделкине мало говорят на серьезные литературные темы, редко читают друг другу свои рукописи – у них в дореволюционной Коуоккале все было по-другому.
А Симонову такого рода общения не требовалось, он хотел обособиться – и не нравилось ему, наверное, жить на арендованной даче.
Вместо Симонова на второй этаж дачи въехал его друг Борис Горбатов – и жизнь этой семьи тоже проходила у меня на глазах. Но, кроме красавицы падчерицы Инги Окуневской (никогда ее потом не видел), ничего про Горбатова обычно не вспоминаю.
Прозы Горбатова я не читал – только стихи Симонова, ему посвященные, и воспоминания сына Симонова Алексея Кирилловича, очень комплиментарно оценившего нашего соседа, совсем недолго прожившего напротив, – тот, наоборот, переехал ближе к Пастернаку, чуть ли не в дачу Афиногенова. Дома у нас Горбатов не бывал, хотя до войны они с отцом знакомство водили и Горбатов отцу написал вроде стихотворения: “Скажу тебе я наудачу, тебя погубит дача”. Моя матушка считала, что в сказанном довоенным Горбатовым свой резон имелся.