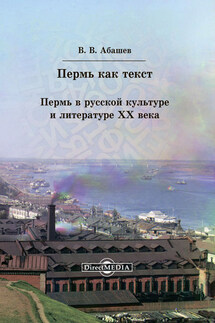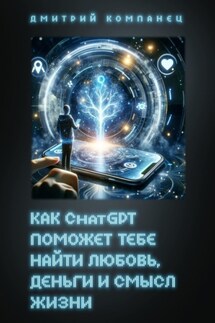Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века - страница 33
У Афанасия Какорина идея «Пермского собора» нашла выражение наиболее завершенное и концептуально продуманное. Идея просвещения, торжества света истины над тьмой заблуждений пронизывает все семь глав книги. В семи житиях запечатлена история религиозного просвещения Перми. Сакральное число, «седмерица», усиливает впечатление телеологической связи, единства. Эту связь мы попробуем интерпретировать.
В Стефане Пермском, возглавляющем «Священную седмерицу», автор подчеркивает полноту воплощения и гармонию начал созерцания и действия. Учёный инок, погружённый в молитву и изучение греческих книг, создатель зырянской письменности, переводящий священные книги на язык пермяков; и он же – неукротимый северный апостол, страстно проповедующий Слово, строящий храмы, сокрушающий пермских идолов, готовый пойти в огонь за утверждение веры в состязании с языческим жрецом.
В череде преемников дела св. Стефана выделяются две триады святых, в каждой из которых мы находим развёртывание аспектов его деятельности – действия и созерцания. Непосредственно за св. Стефаном следует триада ближайших восприемников его дела, действия. Бесстрашные миссионеры – Великопермские епископы Герасим (1416–1447) и Питирим (1447–1455). Они несут посох Стефана всё дальше на северо-восток Руси и принимают в своём проповедническом подвиге мученические венцы. Наконец, следующий за ними Великопермский епископ Иона (1456–1470) утверждает крест в древней Великой Перми – Чердыни, на берегах Камы и Чусовой. Он строит в Чердыни монастырь Иоанна Богослова и тем самым как бы символически завершает дело Стефана. Напомним, что Стефан в начале своего служения поставил в Усть-Выме церковь Благовещения – первый храм на пермской земле. Но если Благовещение открывает новозаветную историю («сегодня – спасения нашего начало и вечной тайны явление» – эту идею праздника глубоко интерпретировал Епифаний Премудрый), то Иоанн Богослов открывает тайну конца истории.
Завершающая триада «Священной седмерицы» А. Какорина – созерцатели и отшельники. Они благовествуют уже не столько прямой проповедью, сколько очевидностью явленного собой нравственного примера. Это епископ Вологодский и Великопермский Антоний, покоряющий излучением кротости и доброты. Это Трифон Вятский (1543 – 8 октября 1613), по слову протоирея Попова, «ближайший духовный благодетель Перми». Он странствует по берегам Чусовой и Камы, ища уединения, как повествует житие: «Обычай бо бяше Святому уединятися и любити безмолвное житие и молитву воссылати к Богу нетщеславну и немятежну». Завершает эту триаду Симеон Верхотурский (1607– 1642), оставивший преимущества знатного рождения и посвятивший себя смиренному служению простому люду в зауральской деревеньке Меркушино.
Таков «Пермский собор» – «Священная седмерица» пермских святых, увиденная глазами сельского священника почти столетие назад. Конечно, Афанасий Какорин не оставил Перми литературного шедевра, но в оценке исторического значения этого текста должны действовать иные, не только эстетические критерии. Здесь важнее другое: предпринятая Какориным попытка религиозноисторического осмысления места сего сохраняет в локальном контексте глубокую и увлекающую творческую перспективу. Свою роль в развитии культурноисторического сознания идея «пермского собора» сыграла. Сакрализация существенных моментов пермской истории, укореняясь, распространяла свою символику и в повседневном сознании.