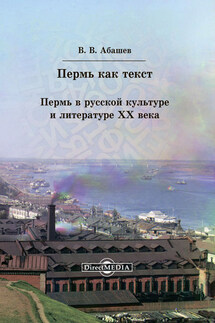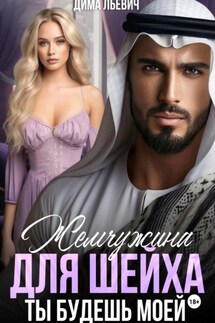Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века - страница 42
В отличие от исторических, органически сложив-шихся городов, Пермь воспринималась как город искусственный, возникший не сам по себе, а исключительно в результате волевого государственного вмешательства в естественный ход вещей. Выразительный образ города, возникшего по приказу, находим у А. И. Герцена: «Пермь – странная вещь. Императрица Екатерина однажды закладывала при Иосифе II город и положила первый камень. Иосиф взял другой и сказал: «А я кладу последний». Смысл обширный. Нет городов, возникших по приказу. Пермь есть присутственное место + несколько домов + несколько семейств; но это не город губернии, не центр, не средоточие чувств целой губернии, решительное отсутствие всякой жизни»125. Так же и для Мамина-Сибиряка Пермь – это «административная затея», «искусственно созданная административная единица», наконец – «измышление административной фантазии»126. Но самый выразительный и символически насыщенный образ этого ряда оставил Ф. Ф. Вигель. Его Пермь прямо возникает из пустоты: «это было пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено быть губернским городом: и оно послушалось, только медленно»127. Образ города, возникающего из пустоты велением государственной воли, обращает к кругу ассоциаций петербургской темы.
Это ощущение искусственности, измышленности города («измышление административной фантазии») развивается в представление о некоей его призрачности, фиктивности. Вернёмся к воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля: «Въехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы себя в поле: не было тогда города, где бы улицы были шире и дома ниже»128. Пермь воспринималась как город, растворяющийся в пустом пространстве, неразличимый в нём. В связи с этим даже реальные успехи Перми Мамину-Сибиряку, например, представлялись призрачными: «В последнее время Пермь совсем преобразилась; мощеные улицы и целые кварталы прекрасных домов производят даже известный эффект. К сожалению, все это тлен и суета <…> Искусственное оживление произведено железной дорогой, и всякая новая комбинация в этом направлении бесповоротно убьет Пермь»129.
Пермь воспринималась в аспекте глубокого несовпадения её статуса и её материальной данности, идеального плана и его реального воплощения. Емкий по глубине обобщения образ города, существующего только на плане, оставил в своих очерках П. И. Мельников: «Если вам случилось видеть план Перми – не судите по нём об этом городе: это только проект, проект, который едва ли когда-нибудь приведётся в исполнение. Почти половина улиц пермских существует лишь на плане <…> Поэтому, с первого взгляда, Пермь представляется городом обширным, но как скоро вы въедете во внутренность её, увидите какую-то мертвенную пустоту»