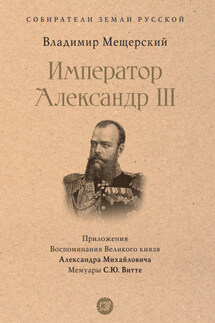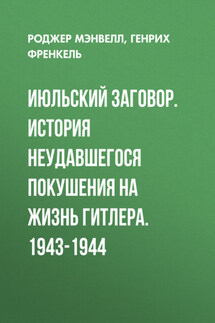Письма к императору Александру III, 1881–1894 - страница 106
Обращаемся к здравому смыслу всякого беспристрастного человека: есть ли вероятие, что толковые крестьяне, безо всякого основания и повода обругали бы в сердцах кого-нибудь “социалистом”? Почему “социалист”? Но, скажут, они могли по личной злобе оклеветать человека ложным доносом. Нет, они бросили в него это слово не пред властями и не на суде, а в личной размолвке. Это не было доносом; это могло быть только оскорблением. Но какой смысл браниться безо всякого повода “социалист”? Стало оно доносом только будучи подтверждено ими на суде, к которому они были привлечены своим противником. Не очевидно ли, что прежде чем их свидетелей обвинять во лжесвидетельстве, нужно было рассмотреть на суде дело о ложном доносе?
Что же делает обвинительная камера? Прежде чем установлен главный факт обвинения, она обезоруживает подсудимых, отнимая у них свидетелей, которых сажает вместе с ними на скамью подсудимых. Если бы оказалось верным, что эти крестьяне убеждали свидетелей не кривить душой и показывать правду на суде, то разве это было бы преступным деянием?
Дело это вскоре должно рассматриваться в одном из окружных судов. Вот суду случай показать, что он умеет быть справедливым. Суд может, и должен, дать защите обвиняемых полный простор. Они не могут иначе оправдывать себя, как обвиняя своего противника. Не они привлекли его к суду; он преследует их. Пусть же суд даст им возможность изобличить его, если они обладают для этого уважительными доказательствами. Но есть ли раскрытие правды главное назначение и истинная задача суда?
Бог знает, впрочем, какое последует решение. Быть может этих людей, столько лет и с таким самопожертвованием, без всяких видов на какие-либо поощрения и награды, как это бывает в сферах повыше, – людей боровшихся в своей маленькой местности со злом, от которого страдала вся Россия, может быть их сошлют “в места не столь отдаленные”. Смеем думать, что судьба этих маленьких людей не безразлична для правительства. В их лице оно, именно оно, потерпит поражение и очень чувствительное».
Воскресенье 22 сентября
Сегодня заходит ко мне [А. Н.] Майков, бледный и расстроенный.
– Слыхали, говорит, что-нибудь?
– Ничего не слыхал.
– В «Nord Deutche Zeitung»[238] напечатано, что в Копенгагене стреляли в Государя, в саду, и попали в часы.
Я сделал все, что мог, чтобы успокоить и разуверить старика-поэта.
«Такие известия приносят счастье, – подумал я, – Тому, про Которого их сочиняют!» Но была еще тревога. В «Нов[ом] времени» появилась сегодня телеграмма из Асхабада, извещающая о взятии Герата англичанами и о какой-то 12 тысячной армии англо-индийской, появившейся под нашим носом! О первом известии ничего ни от кого не слыхал в течение целого дня; от второго известия, очевидно ложного, заболтали по всему Петербургу много.
Но разумеется вечером поздно пришла депеша из Лондона, назвавшая это известие «Нов[ого] вр[емени]» из Асхабада нелепостью.
Но вот что, увы, не нелепость – это общий говор, похожий на стон и вопль – по поводу страшного обмеления Волги, начинающего уже становиться угрозою всей торговле по Волге. И говор этот потому так громок, что доселе не принимается М[инистерств]ом путей сообщений никаких серьезных и радикальных мер против этого страшного, всей России грозящего бедствия. Этот вопрос, по отзывам людей, сведущих о нем, должен стать во главе всех насущных русских экономических вопросов для Министерства путей сообщений, и каждый пропускаемый им день только усиливает и увеличивает затруднения и расходы для будущего.