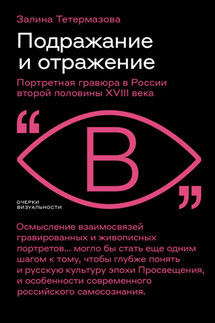Подражание и отражение. Портретная гравюра в России второй половины XVIII века - страница 5
Доска не может быть положена под пресс, пока радирование не будет завершено и после травления крепкой водкой не будет расплавлен канифольный грунт. После этого без долгого промедления делается пробный оттиск17.
Оценивая техническое мастерство немецкого гравера З. Г. Кютнера, Штелин обращал внимание на такие особенности, как чистота и мягкость штриха, умение контролировать силу нажима резца во время работы над доской, чтобы передать «соразмерную естественной» пространственную глубину, «хорошо исполненные и почти распознаваемые по материалу одежды (драпировки), сильное выражение лиц и вполне хорошо нарисованная поза»18. Он понимал, что качество оттиска зависело в том числе и от глубины штриха на доске:
На портрете Эйлера мускул на щеке от носа ко рту, так же как от подбородка к щеке, вырезан еще слишком жестко (слишком мало оттенен), а на картине Доу слишком небрежно исполнена тень на левом предплечье фигуры с плохо освещенной душегрейкой, недостаточно выступает от пристенного столба ручка шандала из‐за отсутствия оттенка или металлического блика. Неужели на оригинальной картине не изображен отблеск на стеклах распахнутого окна, поскольку на гравюре ничего не показано? Им обеим можно было бы еще легко помочь умеренным ослаблением штриха. Это не поздно сделать и сейчас19.
Кроме внимания Штелина к мельчайшим технологическим аспектам изображения, этот фрагмент интересен и тем, что замеченный им в гравюре по оригиналу Доу недостаток (отсутствие отблеска на стеклах распахнутого окна) побудил его задаться вопросом о том, как с этим обстояло дело в живописном оригинале. Погрешности, допущенные автором живописного портрета, могли негативно повлиять на качество исполненной с него гравюры, особенно если речь шла о сходстве с портретируемым. Например, вскользь упоминая о портрете графа Г. Г. Орлова, гравированном Е. П. Чемесовым по оригиналу П. Ротари, который, по свидетельству современников, был не похож на изображенного, Штелин отмечал, что в данном случае оправданием для гравера была несхожесть картины, с которой он делал гравюру20.
Кроме того, в текстах объявлений о продаже гравюр в «Прибавлениях» к «Санктпетербургским ведомостям», а также на страницах многочисленных каталогов и словарей, публиковавшихся с XVIII века по настоящее время, упоминание гравированного изображения предполагало ссылку на живописный оригинал21, а информация о живописном произведении дополнялась указанием на созданные с него эстампы22.
Гравер-переводчик
На протяжении столетий отношение владельцев, знатоков и исследователей к проблеме интерпретации живописных образов в произведениях печатной графики менялось одновременно с изменением художественных вкусов. Однако в теоретических трактатах и сохранившихся свидетельствах современников, связанных непосредственно с русской художественной ситуацией, не встречается рассуждений на эту тему. О восприятии русских гравюр, авторы которых ориентировались на те или иные западноевропейские образцы (в рассматриваемое время преимущественно французские), можно судить на основании текстов, принадлежащих перу французских знатоков искусства той эпохи. Согласно последним, главным критерием совершенства в работе гравера считалась его способность перевести художественные качества живописного произведения на язык гравюры. Об этом писали и Дени Дидро, и некоторые французские граверы и рисовальщики – например, Шарль-Николя Кошен – младший и Пьер-Филипп Шоффар