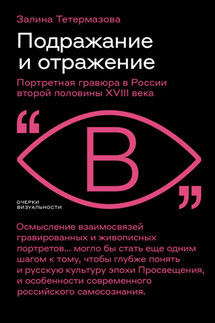Подражание и отражение. Портретная гравюра в России второй половины XVIII века - страница 6
В обзоре Салона 1765 года Дидро называл гравера «переводчиком живописца», который «должен отразить талант и стиль автора оригинала», ибо
гравер по меди – это, в сущности, прозаик, задавшийся целью перевести поэта с одного языка на другой. При этом неизбежно пропадают краски, но зато остаются смысл, рисунок, композиция и персонажи со свойственным каждому выражением24.
В 1767 году, предлагая приобрести гравированные доски Ж. Ф. Леба, Дидро ссылался на невозможность того, «чтобы в России когда-либо скопилось достаточное количество картин, способное внушить подлинный интерес к искусству». С его точки зрения, этот недостаток следовало восполнить гравированными изображениями, ибо «гравер своего рода апостол или миссионер: надо читать переводы, когда не имеешь подлинников»25.
В 1775 году на страницах журнала Mercure de France Ш.‐Н. Кошен – младший побуждал читателей
не относиться к превосходным граверам как к простым копиистам; они – скорее переводчики, которые переводят красоты одного языка, очень богатого, на другой язык, по правде говоря, менее богатый, но представляющий некоторые трудности и позволяющий создавать равноценные произведения, вдохновленные гением и вкусом26.
Применительно к эстампам, исполненным по живописным оригиналам, авторы теоретических трактатов, как правило, также использовали понятия «перевод» или «интерпретация»27.
При этом, называя гравюры переводами, люди XVIII века, очевидно, не воспринимали их как второстепенные по отношению к живописи памятники. В эпоху, когда господствовала эстетика, ориентировавшая художников и писателей на следование образцам, в частности, в литературе создание перевода античного текста представлялось как равноценное написанию нового оригинального сочинения явление; соответственно относились и к искусству гравера. В 1779 году в отзыве Академии русского языка и словесности о переведенных В. П. Петровым первых шести песнях поэмы Вергилия «Энеида» (Еней, героическая поема Публия Виргилия Марона. Песни I–VI. СПб., 1770) переводчик был не просто удостоен высокой похвалы, но и приравнивался к автору, чье сочинение он перевел и с которым мог достойно соперничать:
Виргилий нашел в господине советнике Петрове страшного соперника, и красоты сего избраннейшего римского стихотворца сделались нашим стяжанием посредством прекрасного сего переложения; желательно, чтоб и образец Виргилиев (т. е. Гомер) был подарен российским письменам сим выразительным прелагателем28.
Поэт В. В. Капнист восторженно писал о переводе «Илиады» Гомера, сделанном Е. И. Костровым и опубликованном в Санкт-Петербурге в 1787 году:
Важно и то, что в Императорской Академии художеств с момента ее основания в 1757 году обучение начиналось с копирования произведений, признанных образцовыми. Это вообще было значимой составляющей академического художественного образования в Европе и позволяло юным ученикам осваивать приемы величайших мастеров. Однако в XVIII веке копирование являлось не только элементом обучения, но и частью художественной практики зрелых художников, которые часто обращались к различным изобразительным источникам в поиске сюжетов, композиций и иконографии30. В это время подражания, переводы и следование образцам не представляли собой ничего предосудительного для художника или писателя, а ориентация на образец не являлась поводом считать такую работу второстепенной по отношению к оригиналу.