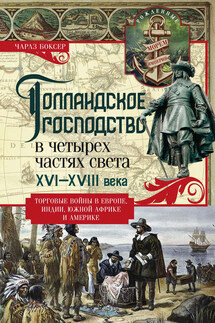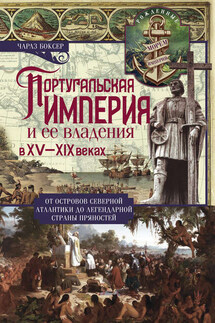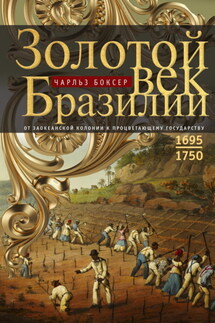Португальская империя и ее владения в XV-XIX вв - страница 34
В последнее десятилетие XVI в. португальская монополия на внешнюю торговлю Японии и монополия иезуитов на японскую миссию, основанную в 1549 г. Франциском Ксаверием, оказались под угрозой со стороны испанских торговцев и монахов-миссионеров, появившихся на Филиппинах. Активность иберийских соперников, которая вызвала большую озабоченность среди португальцев, не привела в итоге к сокращению их доходов от торговли между Макао и Нагасаки. Несмотря на объединение в 1580 г. двух иберийских держав под властью испанского короля Филиппа II, правительство в Мадриде признало, что Япония находится в сфере влияния Португалии (границу которой определил в 1494 г. Тордесильясский договор) и что монополия на японскую торговлю должна принадлежать скорее Макао, а не Маниле.
Глава 3
Новообращенные христиане и духовенство в муссонной Азии (1500–1600)
Значимость японского серебра, китайского шелка, индонезийских пряностей, персидских лошадей и индийского перца в Португальской Азии не должна заслонять того факта, что Бог был вездесущ, как и маммона. Падре Антониу Виейра, великий португальский иезуит-миссионер, писал в своей «Истории будущего»: «Если бы не купцы, которые отправляются за земными сокровищами на Восток и в Западную Индию, кто доставил бы туда проповедников, что собирают небесные сокровища? Проповедники берут с собой Евангелие, а купцы берут проповедников». Если в Британской империи торговля следовала за флагманским кораблем, в Португальской империи сразу же за купцом шел миссионер. Надо признаться, что если люди Васко да Гамы и говорили, что они плывут в Индию на поиски христиан и пряностей, то в течение первых 40 лет деятельности португальцев на Востоке поиск христиан велся с куда меньшей настойчивостью и энергией, чем экзотичных пряностей. Вплоть до того момента, когда в 1542 г. в Гоа прибыли иезуиты с новыми людьми и новыми методами проповеди, относительно немного миссионеров отправлялось в Индию, и их успехи были скромны. Большинство среди них даже не пытались выучить какой-либо восточный язык и зависели от переводчиков, которые, естественно, лучше разбирались в рыночных ценах и базарных слухах, чем в тонких богословских материях. Но ни эти миссионеры, ни пришедшие на смену им более обученные иезуиты так и не озаботились познакомиться со священными книгами и основными религиозными воззрениями тех, кого они хотели обратить в свою веру, – мусульман, индуистов и буддистов. Все их верования они были склонны рассматривать как порождение дьявола.
Более того, многие священники были более заинтересованы служить маммоне, а не Богу. Так, несколько клириков обратились к скандально известному викарию Малакки в 1514 г., и из их слов стало ясно, во что они веруют. «Это основная причина, по которой они прибыли на Восток, – копить богатства в крузадо; и один из них заявил, что не успокоится, пока не скопит за три года 5 тысяч крузадо и много жемчуга и рубинов». Среди тех, кого подобные этим клирики обращали в христианскую веру, были большей частью либо женщины-азиатки, сожительствовавшие или состоявшие в законном браке с мужчинами-португальцами, либо домашние рабы и умиравшие от голода нищие и отверженные обществом люди, ставшие «рисовыми христианами». Конечно, случались и исключения, как это было в случае с народом парава, ловцами жемчуга из Южной Индии. Первоначально обращение было поверхностным (1537), затем оно дало ощутимые результаты. Но именно Общество Иисуса, иезуиты, находилось в авангарде церкви воинствующей, которое вело за души новообращенных напряженную и настойчивую борьбу, что была схожа с конкуренцией за обладание пряностями. Сыны Лойолы заложили и поддерживали более высокие стандарты поведения, в отличие от своих предшественников. Замечательные успехи португальских миссий с 1550 по 1750 г. были в основном делом их рук. Даже враждебно настроенные к ним протестанты вынуждены были отдать им должное.