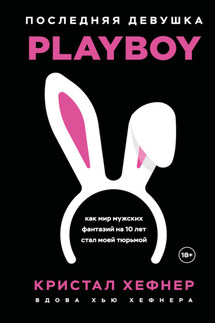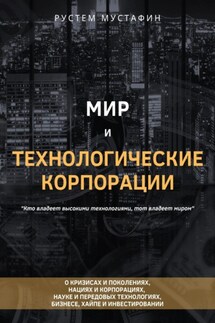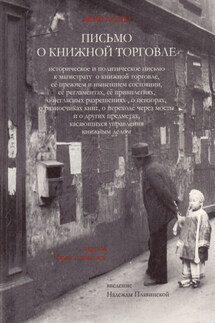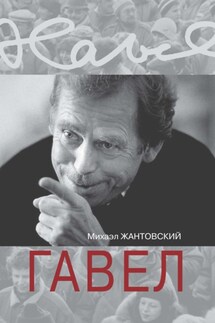Последняя девушка PLAYBOY: как мир мужских фантазий на 10 лет стал моей тюрьмой - страница 3
Хефу был девяносто один год, но в его голове ему всегда было полвека; его волосы были густыми и темными, его трубка дымилась, а женщины всегда смотрели на него с благодарностью, готовностью и жаждой. Даже когда он опирался на меня в свой день рождения, в мыслях он все еще оставался тем, кем хотели быть все мужчины и кого хотели все женщины. Тем, кто обладал абсолютной властью. На столе стояли блюда с омарами и тысячедолларовые баночки с икрой. Персонал наливал шампанское в бокалы-креманки до самых краев. Обычные излишества мира «Плейбой». Я стояла, держа Хеффа за руку, позволяя ему опираться на меня, так, чтобы никто не догадался. Сверкали вспышки камер. Люди все время фотографировались. В особняке нужно было постоянно думать о том, как ты, если что, будешь выглядеть на страницах журнала. Нужно было постоянно следить за своим лицом, телом, за своими жестами, позами и выражением лица. В тот самый момент я старалась выглядеть счастливой женой.
Затем вынесли праздничный торт, как всегда безупречно оформленный: наша с ним фотография, нанесенная на глазурь. Хеф – Богарт, я – белокурая Бергман. До меня на торте было лицо Холли, до нее Тины, Брэнды, Кимберли… парад блондинок, чередой следовавший друг за другом.
– Задуйте свечи! – сказала я. Затем улыбнулась и захлопала в ладоши.
На фотографиях с той вечеринки я смеюсь. На мне безупречный макияж и сияющее платье. Мои золотистые волосы спускаются роскошными, сексуальными волнами на плечи в классическом стиле журнала «Плейбой». Но камеры не видят всего, что я скрываю: что Хеф умирает и что я тоже больна. Я нутром чую: что-то не так. Я измотана. Мой мозг словно в тумане, я едва могу думать. Кажется, что мои кости горят. Я не вылезаю от врачей, пытаясь выяснить, в чем дело; я прошла интенсивный курс антибиотиков, мне сделали операцию по удалению грудных имплантатов, которые я вставила более десяти лет назад. Я все еще чувствую себя ужасно. Я трясусь. Я слаба. Я не знаю, в чем именно дело, но внутренний голос говорит мне: особняк «Плейбой» убивает меня.
Мне всего тридцать один год, но, как и Хеф, я чувствую себя старухой, словно, как и он, умираю.
В конце ночи двое здоровенных бывших военных санитаров подняли Хефа по лестнице. Я помогла ему переодеться из черной шелковой пижамы во фланелевую, в которой он теперь предпочитал спать. Я помогла ему лечь в кровать. Кровать была огромной, покрытой искусной резьбой. На потолке по-прежнему висело зеркало, в которое он любил смотреться, когда лежал на этой кровати в окружении принадлежащих ему женщин. В этот вечер, как и в другие вечера, он хотел поговорить о своем наследии и о том, как имя Хью Хефнера будет жить после его смерти. Он всегда говорил, что хочет, чтобы его запомнили как человека, который производит огромное впечатление. Того, кто изменил сексуальные нравы своего времени. Он мнил себя титаном американской истории: тем, кого уважают, кем восхищаются и кого считают героем.
– Я хочу, чтобы ты вошла в совет директоров моего фонда, – произнес он, пока я стаскивала с него тапочки и поднимала его бледные, почти полупрозрачные ноги под шелковыми простынями. – Я хочу, чтобы ты и дальше продолжала мое наследие.
Затем он остановился и посмотрел на меня.
– И я хочу напомнить тебе, – сказал он, не сводя с меня глаз, – чтобы ты говорила обо мне только хорошее.
Он умел быть властным и снисходительным, даже когда просил об одолжении.