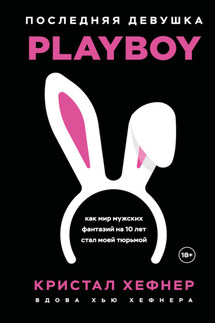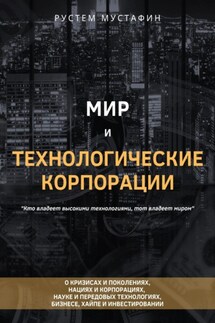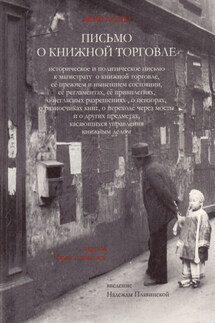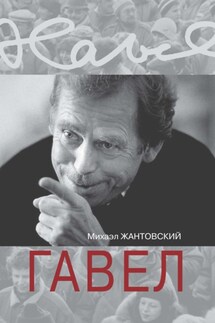Последняя девушка PLAYBOY: как мир мужских фантазий на 10 лет стал моей тюрьмой - страница 4
Я колебалась, но едва ли.
– Конечно, – сказала я.
– Дай мне слово, – ответил он.
Я посмотрела на него, такого хрупкого, слабого и маленького на этой большой кровати, и сглотнула, когда мне захотелось сказать гораздо больше.
– Я буду говорить только хорошее, обещаю.
Он улыбнулся и похлопал по пустому месту на кровати рядом с собой. Он уснул еще до того, как я легла в кровать, но я еще долго лежала без сна, думая о своем обещании. Чем оно было, так оно и чувствовалось: тяжким грузом, который мне предстояло нести до скончания времен.
Шесть месяцев спустя Хеф подцепил какую-то незначительную болячку. Поначалу казалось, что это излечимо: врачам нужно было только подобрать правильный антибиотик для лечения именно этого штамма бактерий, и все было бы в порядке. Конечно, ему было уже за девяносто, но он пережил и не такое. Он пережил рак. Но в данном случае речь шла о кишечной палочке – агрессивной ее форме. Когда врачи заговорили о том, что он вряд ли выживет, я была в растерянности и в бешенстве. Я отчаянно хотела покинуть этот особняк, закончить этот брак, но не таким образом. Смерть, будь то смерть людей или домашних животных, всегда выбивала меня из колеи. Когда смерть уже на пороге, я вдруг становлюсь ребенком – дрожащим от страха, в панике пытающимся не впустить ее в дом. Я начала обзванивать знакомых врачей в Лос-Анджелесе, у которых могли быть в наличии другие антибиотики. Я знала, что, найди я тогда нужный антибиотик, Хеф бы выжил.
Но я не нашла.
После его смерти пресса требовала от меня заявлений. Мой телефон разрывался от звонков. Гора букетов у входных ворот росла как на дрожжах. Чтобы люди могли входить и выходить, персонал время от времени спускался вниз и убирал груды смятого целлофана и увядших цветов. Были открытки и письма, в которых говорилось о том, как много он значил для людей. Хеф был бы рад этим душевным излияниям; он бы сфотографировал каждую записку и завел бы еще один альбом, в котором хранил бы весь этот подхалимаж. У него были тысячи альбомов, рассортированных по темам, событиям и временам, которые он хотел запомнить.
Первые несколько недель я провела взаперти. Я не выходила из дома. Я не знала, что делать, куда идти. Более того, я не понимала, что вообще я из себя представляю за воротами особняка «Плейбой».
Однако мне предстояло во всем разобраться, причем быстро. Более чем за год до этого особняк уже купил какой-то миллиардер, хотевший иметь свой собственный кусочек легенды. Новый владелец согласился позволить Хефу продолжать спокойно жить в особняке до конца своей жизни. Но теперь, когда Хефа не стало, особняк нам уже не принадлежал, и пришла пора собирать вещи.
Наконец я села, написала свое заявление и отправила его в редакцию журнала «Плейбой». Там его немного поправили, и мы его опубликовали.
«Я так и не смогла заставить себя поблагодарить большинство из вас за ваши соболезнования, – писала я. – Я вне себя от горя. Я до сих пор не могу поверить в произошедшее. Мы предали его земле в субботу. Сейчас он там, где он хотел провести вечность. Он был американским героем. Первопроходцем. Доброй и скромной душой, открывшей миру свою жизнь и свой дом. Я чувствовала, как сильно он меня любил. И я так сильно его любила. Я бесконечно ему благодарна. Он дал мне жизнь. Он дал мне ориентиры. Он научил меня доброте. До конца времен я буду благодарить жизнь за то, что была рядом с ним, держала его за руку и говорила ему, как сильно я его люблю. Он изменил мою жизнь, он спас меня. Он заставлял меня чувствовать себя любимой каждый день. Для всего мира он был словно маяк; он был силой, не похожей ни на что другое. Никогда не было и не будет другого такого же Хью М. Хефнера».