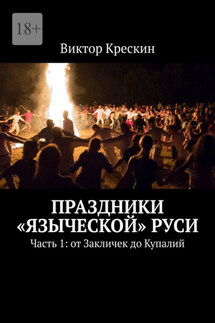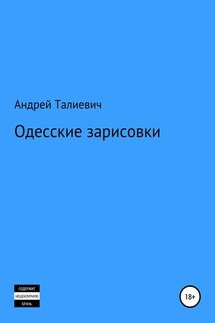Праздники «языческой» Руси. Часть 2: от дня Даждьбога до Масленицы - страница 24
Постепенное замещения в традиции древнего, «женского» символизма плодородия с новым, мужским, в некоторых местах находило проявление в их смешении. «Бороду» украшали женскими атрибутами, сохранив мужскую направленность при́говора: «Пучок колосьев («борода») украшался лентами и цветами, иногда на него повязывалась косынка. Это называлось «завить» или «оставить бороду» Богу, Николье, Илье, Кузьме-Демьяну, Христу, а на северо-востоке – Власу, Волоту (от старославянского бога богатства Белеса)» (Тульцева Л. А.: 69, с. 556). В этом слиянии образов содержатся составляющие, обращенные и к Рожанице-Земле, и к Хранителю-Велесу.
Перенос дожинальной «бородки» только на мужское Божество или церковных святых произошел во времена, когда Великая Мать-Богиня отодвигалась на второй план. В архаичные времена завершение жатвы сопровождалось, в первую очередь, заботой о Рожанице: «Закончив жатву, женщины втыкали серпы в последний снопик или протаскивали их под «бородкой» (арочкой из колосьев). Последнее действие называлось «женитьбой серпа». В этом ритуале серп символизирует мужское, а «бородка» женское репродуктивное начало («бородкой» иносказательно называли лобковые волосы у женщин)» (Щепанская Т. Б.: «Бабняк»: 98, с. 40). Такой-же эпитет к женским гениталиям можно встретить, например в описании быта староверов-беспоповцев Усть-Цильмы: «…Форма игры имела явно эротическую направленность, подтверждавшуюся завершавшими ее словами потешки: «Борода, посередке щыль, / Да пригодится всим» (Дронова Т. И.: «Представления о «греховности»…»: 110, с. 131).
При звязывании «бородки», разделении перевязью «верха» и «низа» в магическом смысле имело отношение и к роженице – Матери Земле и к рожденному ею «сыну». «Верхушки завязанных колосьев осмыслялись в качестве «родившегося ребенка» – плода земли» (Шангина И. И.: «Жнея»: 98, с. 219). В этом смысле перевязь означает действия с пуповиной. Верхняя часть – колосья – принадлежит мужскому Божеству и несет в себе сложное сакральное содержание: воздаяние, жертва Солнцу за урожай и – одновременно символизирует возрождение его эротической мужской силы, которая обеспечит урожай будущего года. «За верхушками колосьев – «родившимся ребенком» – стоит многозначный образ, трактовавшийся по-разному – дух хлеба, земли, нивы, солнца, огня, будущего урожая и т. п. Исходя из восточнославянского материала, мы подчеркиваем в нем прежде всего признаки мужской природы, каковы бы ни были его смысловая насыщенность, терминологическое и видовое разнообразие оформления верхушек (антропо-зооморфное, растительное, комбинированное)» (Бернштам Т. А.: 94, с. 156). Полабские славяне также воздавали почести за урожай и женскому и мужскому Божествам: «Такъ урожаи полей… зависѣли отъ богини жизни Живы и отъ бога свѣта и солнца Святовида. Въ честь послѣдняго, по окончаніи жатвы, совершалось празднество» (Срезневский И. И.: 27, с. 10).
Род, мужское начало, в ипостасях небесных Божеств, оплодотворяющих, согревающих, увлажняющих Землю-Мать, продолжается в созревших зёрнах. «Песенному „гуканью“ был тождествен коллективный крик жниц при зажине и дожине, с обращением к солнцу, зафиксированный в севернорусских областях, где песенного гуканья не было» (Бернштам Т. А.: 94, с. 153). Сосредоточенная в колосьях зарождающаяся мужская сила ещё должна будет проявиться при весеннем оплодотворении Земли, но магические ритуалы, обращенные к ней, начинались сразу после «рождения». Обряды и обрядовый фольклор, относящийся к «богу в жите», подчеркивают сексуальный, оплодотворяющий характер «родившегося» (там же, с. 152). Слово «бородка» в магическом ритуале, таким образом, несло в себе двойной смысл, относящийся к волосам: ожидаемое взросление и половое созревания новорожденного (мужское начало), и завершение родов, «закрытие» женского детородного органа. И у других народов Европы, как отметила Т.А.Бернштам, «Символика „обрезания пуповины“ видится нам в обрядах бросания серпов в последние колосья, в мотивах отсекания „головы“, „обрезания хвоста“, в иносказательных названиях колосьев – „шея“, „хвост“ (у европейских народов), „коса“, „борода“ (у славян), Обрезание освобождало „родившегося“ от нивы…» (там же, с. 155).