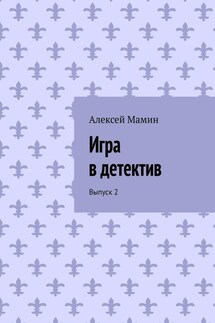Проект Алетейя - страница 3
Грегори Лауден, высокий, нескладный и слегка небритый математик, оторвался от монитора:
– Во-первых, это был один анекдот, но хороший. Во-вторых, Тиа, если бы ты слышала, как твои нейроны перекраивают реальность, ты бы сама попросила «Алетейю» заново синтезировать себе биографию.
Даниэль Северино, единственный, кто держал в руках блокнот и писал от руки (и притом каллиграфически), тихо хмыкнул:
– Я просто хочу напомнить, что наша задача – не победить субъективность, а обойти её статистически. Или хотя бы сделать вид, что у нас это получится.
– Хорошо, – Элиза поднялась и подошла к главной доске. – У нас есть гипотеза. Память – не объективный носитель, а вероятностная модель, зависящая от контекста, эмоционального состояния, уровня кофеина и фазы Луны, если хотите. Мы должны понять, как в мозге множественные искажения взаимодействуют между собой, и как их можно «обратным способом» синтезировать в нечто, что хотя бы приближается к понятию «истина».
– То есть мы предлагаем не искать истину напрямую, а восстановить её через пересечение несовпадающих версий, – уточнила Тиа. – Метод перекрёстной корреляции.
– Именно. Мы берем воспоминания о событии от множества наблюдателей, сравниваем их, идентифицируем зоны согласия и конфликта, и строим модель.
– И это… не то же самое, что просто спросить всех и взять среднее арифметическое? – уточнил Грегори с подозрением, свойственным математикам, которым не нравится, когда их формулы заменяют здравым смыслом.
– Нет, – ответила Элиза. – Мы не ищем «среднее» – мы ищем устойчивые паттерны. То, что остаётся при наложении множества несовершенных копий. Как в голограмме. Или в плохом фан-арте, который всё равно узнаётся.
Тиа прищурилась:
– Так что будет с экспериментом? Мы всё ещё собираемся устроить падение стакана?
– Да, – кивнула Элиза. – Сегодня в 16:00. Мы вызвали 50 добровольцев. Стакан упадёт в строго контролируемых условиях. Камеры будут снимать под разными углами. После чего мы изолируем каждого участника и попросим описать, что именно он видел. До последней детали.
– И потом мы воссоздадим «реальное» падение стакана, – пробормотал Даниэль, глядя в блокнот, где уже были начертаны вероятностные схемы. – Или уедимся, что его не было вовсе.
– Подозреваю, – вздохнул Грегори, – что по версии некоторых добровольцев стакан полетит в сопровождении херувимов.
– Или скажет: «Я не готов к этому», прежде чем упасть, – добавила Тиа. – Люди видят то, что хотят. Или то, чего боятся. Или то, что где-то между.
Час спустя, когда добровольцы уже рассаживались по изолированным отсекам лаборатории, за стеклом была выстроена сцена. Стакан – самый обычный, стеклянный, нейтральный и скучный, стоял на краю стола.
Элиза дала знак. Манипулятор – тонкий металлический «палец» – толкнул стакан. Тот покачнулся. Упал. Разбился.
50 камер, десятки сенсоров, тысячи микросекундных замеров. Всё было зафиксировано, документировано и сохранено.
А потом началась настоящая работа.
– Доброволец №7 утверждает, что стакан был пластиковым, – сказала Тиа, не веря своим глазам. – Причём синим.
– №12 говорит, что его никто не трогал – он просто упал сам. «Словно под действием неведомой силы».
– А вот №19 описывает падение в замедленной съёмке, хотя у нас не было такого эффекта.
– №33 слышал музыку. Какой-то струнный квартет.
Грегори перевернул несколько страниц протокола и простонал: