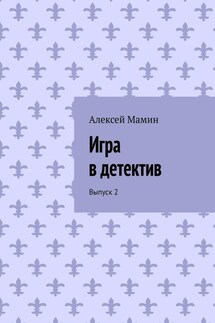Проект Алетейя - страница 7
H – гипотеза о событии,
E – свидетельство.
Мы хотим знать вероятность H, учитывая E.
– То есть… мы берем чьё-то воспоминание как свидетельство, – уточнил Даниэль, – и спрашиваем: насколько оно вероятно, если событие действительно было?
– Да. Но есть нюанс, – перебила Тиа. – Каждое воспоминание мы теперь снабжаем весом, отражающим вероятность искажения.
– Индивидуальный коэффициент доверия, – кивнул Грегори. – Кто чаще ошибается, кто склонен к драматизации, кто забывает цвета…
– И именно это мы включаем в модель, – добавила Элиза. – Мы строим не истину, а распределение вероятностей истины.
На доске возникла абстрактная конструкция:
Пусть у нас есть n свидетелей:
Каждый выдаёт интерпретацию
Каждому приписан коэффициент достоверности
Цель – определить P(Т) – вероятность того, что некое утверждение Т истинно.
– Это первая попытка, – сказала Элиза. – Наивная, но мощная.
Если все интерпретации согласованы, и веса высоки – мы получаем высокую вероятность.
– А если разнобой? – спросил Даниэль.
– Тогда возникает размазанное распределение, – кивнула она. – И тем самым – низкий консенсус.
И, внимание, теперь самое важное.
Элиза переключила слайд. На нём была надпись:
Истина как предельный случай согласованности.
– Мы перестаём искать абсолют, – произнесла она. – Мы ищем точку, к которой стремятся все интерпретации, при условии минимального искажения.
– То есть истина – это предел функции согласия, – прошептала Тиа. – Как в математическом анализе.
– …и если все наблюдатели в идеале воспринимают событие одинаково, – подхватила Элиза, – то I = T.
– Но этого не бывает, – добавил Грегори. – Значит, мы всегда приближаемся.
И вся работа алгоритма – оценивать степень этого приближения.
Так родилась первая математическая модель Истины в системе —Алетейя—.
Она больше не была константой.
Теперь она – функция от множества искажённых интерпретаций.
Функция, стремящаяся к идеальному консенсусу, но никогда не достигающая его полностью.
– Вы только что уничтожили понятие правды, – сказал Даниэль.
– Нет, – возразила Тиа. – Мы просто признали, что всегда живём в её приближении.
И задача науки – не искать грааль, а строить градиенты правдоподобия.
В лаборатории снова наступила тишина.
Не пустая. Не растерянная.
А та, в которой за шорохами формул и теплом человеческих голосов впервые пробивается новое понимание.
Интерпретация – это шум.
Но в этом шуме, если слушать достаточно долго,
начинает звучать песня структуры.
И где-то за границей моделей,
начинает проявляться…
предельный силуэт Истины.
Глава 6. Модуль согласия
На третьем часу абсолютной тишины, прерываемой только шорохом пальцев по сенсорам и периодическим вздохами, кто-то закашлялся.
– Это была я, – сообщила Тиа. – Прости. Я тоже человек.
– Не извиняйся, – буркнул Грегори, не отрываясь от монитора. – Я сам хотел прокашляться, просто не успел. Спасибо, что опередила.
– У тебя и кашель с задержкой на три секунды, – сказал Даниэль, не отрываясь от отладочной панели. – Хроническая ирония мешает гортани.
– Зато ты говоришь ртом, а думаешь локтем, – парировал Грегори.
– Тихо, – Элиза подняла руку, не глядя. – У нас нейросеть на грани самоосознания, а вы как в школьной столовке.
Они работали над модулем согласия уже сутки без перерыва. И дело было даже не в кофе – которого не осталось с трёх утра, – а в том, что задача, над которой корпели лучшие умы этого проекта, с каждым часом становилась всё более философской.