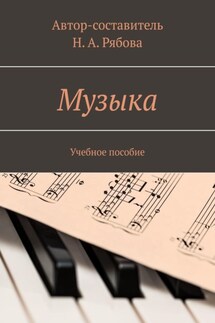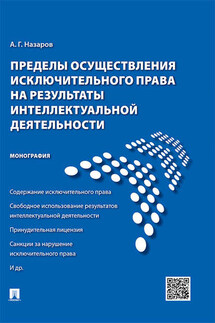Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана - страница 13
Итак, человек всегда в той или иной степени и пропорции воплощает единство противоположностей: он один в двух лицах, будучи одновременно художником и мыслителем. Ясно, что каждый полюс в свою очередь представляет собой спектр. Тот же «художник» включает в себя типологическую бесконечность от почти чистого художника (мышление которого определяется едва ли не зоопсихологией) до почти мыслителя (для которого образы порой выполняют иллюстративную, то есть подчинительную функцию). Разумеется, логика спектра в полной мере может быть отнесена и к «мыслителю». Художник (или мыслитель) как субстанция – это океан с берегами от еще не полного тождества себе до чуть ли не своей противоположности.
В подобной ситуации разговор о норме (что есть «образцовый» художник?) – чрезвычайно тонкая материя, не терпящая ни малейшей вульгаризации, способной превратить понятие условной нормы в безусловный нормативный канон. Нормативная система же становится радикально оппозиционной «антинорме» – и витки противостояния обречены на вечный метафизический пат до тех пор, пока не будет диалектически проинтерпретировано само понятие нормы. В гуманистическое понятие «нормы» входит понятие цены, которую человек платит за художественные или философские достижения и прорывы. Чем более человек художник (или: чем менее он мыслитель) – тем более он психичен и психологичен: таков закон жизни духа. Художник живет и творит в сфере и атмосфере эмоционально-психологической, ведущей формой существования которой являются образы. Мир образов – звуковых, цветовых, пластических, словесных – вот подвижная культурная зона естественного обитания своеобразного медиума, каковым является всякая художественно одаренная личность.
Художник и мыслитель, будучи инструментом и способом творить культуру и жить в ней, являются вместе с тем разными уровнями или степенями защиты человека духовного. В экстремальных мировоззренческих обстоятельствах, когда образно-модельного творческого потенциала уже явно недостаточно, чтобы справиться с постигшей субъект жизненной катастрофой (а, как правило, первотолчком духовной эволюции выступают именно жизненные катаклизмы), включаются компенсаторные резервные мыслительные мощности, и человек обретает интеллектуальную броню – гораздо более мощную защиту другого порядка и качества. Мировоззрение личности становится куда более гибким, универсальным и, соответственно, куда более эффективно приспосабливающим человека к критическим, пограничным состояниям. Такой миросозерцательный панцирь (идеологический по природе) становится труднопробиваемым и практически неуязвимым – до тех пор, пока интеллект не оказывается на острие единоначалия в пирамидальной структуре личности. Тут начинаются свои сложности – сложности мыслителя.
Мыслитель начинается там, где преодолевается порог психичности и психологичности, за которым только и можно осознать свои «допороговые» возможности. Мыслитель начинает понимать художника – вот гребень водораздела, рассекающий зыбкое духовное пространство личности. Чем более человек мыслитель – тем более дистанцируется он от собственных переживаний, стремясь постичь их первопричины. Он уже не столько живет, сколько разгадывает тайну жизни.
Далее возникает огромный рационалистический соблазн объявить человека мыслящего венцом творения, целью и смыслом природы и истории, и на этом закрыть вопрос о его «непостижимой» сущности, демистифицировав проблему загадочной души, и открыть аналитическую страницу истории человечества.