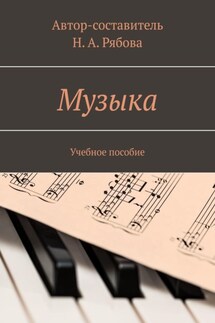Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана - страница 18
Другая же сторона культурного подвига – способность к рефлектирующему, объясняющему сознанию – в принципе чужда народу, Это удел высококультурных одиночек, вышедших из народа и, к счастью, оторвавшихся от него.) Народ, обладающий скорее интуицией, чем умом, предложил великолепную по форме модель. Постараемся же культурно ее завершить: проанализировать, философски прокомментировать.
Если согласиться с тем, что праведник есть приверженец морали, почти с удовольствием исполняющий все ее предписания, то молодость, очевидно, не особо дружит с моралью, то и дело преступая ее заповеди. Почему же молодость преступна?
Потому что мораль не в силах сдержать прущую из юных жизненную силу. Детородный возраст подчиняет индивида программе воспроизводства жизни, и никакие культурные ограничения, будь то даже самые высокие нравственные идеалы, не в состоянии (слава богу!) надежно блокировать напор стихии.
Все «зло» человека сосредоточено в инстинктах, в витальной базе, противостоящей ментальному завершению личности. Динамическое состояние «добра», как противоположного «злу», означает победу духа над плотью, одухотворение плоти, контроль над ней. Ясно, что в молодости духу труднее всего обуздать инстинкты. Но стоит ли так однозначно венчать молодость с несовершенством человека?
Во многом надуманная греховность человеческой природы, на деле означающая гарантию непрерывности жизни, является таковой лишь с точки зрения абсолютизированной духовности. К старости, когда человеку не составляет никакого труда пополнить ряды праведников (угасающую плоть, увы, и смирять не надо, она «облагораживается» в силу естественного хода вещей), дьявольское начало как бы «немотивированно» улетучивается. Дьявол «вдруг» становится праведником. Возникают сомнения: во-первых, был ли дьявол, а во-вторых, так ли уж почетно быть праведником?
Если принять тезисное объяснения дьяволиады, то ничего удивительного в эволюции князя тьмы нет. Поскольку ничто человеческое ему не чуждо, он просто обречен подобреть, если только не приписывать ему свойства носителя мистического, метафизического зла. С земным дьяволом все просто. Разве что один нюанс: дьявол вечен (дай бог ему здоровья) в силу вечности молодости. Пословицу следовало бы подкорректироватъ: если бы дьявол мог стареть, то и он к концу жизни превратился бы в праведника.
По большому счету, противоречия молодости – глупости (слушающей лишь голос чувств, хотений, желаний, влечений) и старости-мудрости (ориентированной на голос рассудка: на доводы разума, принципы объективности, целесообразности и т. д.) лежат в плоскости психики – сознания. Гнездо дьявола свито именно в психике, которая и является орудием козней «духа нечистого». Все «объяснения» подверженности злу преимущественно психогенны: нечистый попутал, охота путце неволи, чем черт не шутит, когда бог (добро) спит. Сконцентрированно: седина в бороду – бес в ребро.
Ум тогда лишь правильно видит мир (и способен объективно оценить человеческую природу), когда восприятие не искажается силой желаний. Активность психики, идущая от активности физиологической, витальной базы, стимулирует мышление, но одновременно заставляет его «ошибаться». И все ошибки – в пользу психики, которая служит инстинктам-потребностям, то есть «злу».