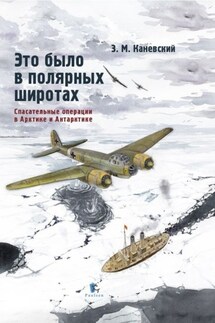«Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны - страница 27
Иными словами, перед теоретиками пролетарского искусства стояла задача сначала отсечь «второстепенных классиков», тем самым сформировав ядро «классического» канона, а затем создать внутри этого ядра такую конфигурацию, которая создавала бы эффект закономерного, прогрессивного движения литературного процесса. По сути, речь шла о концептуальном осмыслении художественной жизни прошлого, о построении непротиворечивой хронологии, в контексте которой объединились бы история людей и история идей и стилей. Одним из первых предпринял попытку теоретизировать фигуру классика Л. Л. Авербах:
Мы знаем, что классики есть вершина того литературного наследства, которое мы получили от прошлого мира, завоеванного нами экономически и политически. Мы знаем, что классики есть та вершина, на которую нам надо подняться и преодолеть, чтобы и<д>ти вперед. <…> Для меня классики – это те, кто значительные идеи, отражающие сущность их эпохи, психологически-глубоко и совершенно художественно преломляют в живых и живущих образах. А если так, то ясно, что наследовать классиков может только тот, кто представляет собою передовую идею своей эпохи. В наше время такими являются пролетарские писатели120.
Построения Авербаха стали отправной точкой для Бернхарда Райха, в апреле 1928 года выступившего с дискуссионной статьей «О классиках» (опубл.: На литературном посту. 1928. № 8). В ней критик писал:
Для нас «культурное наследие» означает не заимствование отдельных элементов подходящих нам идеологий, а использование культурных ценностей во всей их совокупности для укрепления наших сил с целью в возможно более краткий срок преодолеть это наследие121.
Иначе говоря, «учеба» начинающего писателя не должна была исчерпываться формальными «уроками мастерства». Начинающему автору следовало ощутить себя частью целокупной художественной традиции, осознать преемственность своей творческой практики122. В этом и состоял так называемый диалектико-материалистический творческий метод, которым призывала овладеть пролеткритика123. Уточненные, но предельно абстрактные определения «классиков» и «классических произведений» Райх дает в тексте разрядкой:
Классики – это те, которые на основании мировоззрения, опирающегося на одну из существенных идей данной эпохи, отражают сущность ее124;
<…> классические произведения – это такие, в которых <авторы> на почве определенных мировоззрений отражают сущность своей эпохи психологически-глубоко и в относительноокончательной художественной форме преломляют значительные идеи в живых и живущих образах125.
Эти и подобные им псевдотеоретические выкладки, в сущности, являлись способами риторического самоопределения пишущего. Дело в том, что все упомянутые нами тексты, будучи фрагментами письменно зафиксированного процесса коллективного поиска, корреспондировали между собой, а их авторы, соглашаясь или, напротив, вступая в полемику друг с другом, занимали определенное положение на слабо нюансированной карте литературной жизни конца 1920‑х.
Время от времени в литературно-критических кругах стали звучать весьма резкие несогласия с точкой зрения рапповцев. Пожалуй, едва ли не самым существенным в этом споре был довод В. О. Перцова, сформулированный в статье «Культ предков и современность» (опубл.: Новый Леф. 1928. № 1):