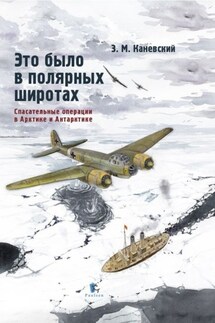«Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны - страница 29
Если мы у классиков учимся синтетическому обобщению элементов произведения, то у многих русских и, особенно, западных декадентов есть большой смысл поучиться работе над отдельными элементами, работе над деталями стиха (и прозы, конечно).
Учиться у Гумилева есть чему. Знать даже Апполона (sic!) Григорьева, Каролину Павлову и др., о которых (о, ужас!) упоминал Алтаузен, вовсе не так скверно. Чем больше будем знать, тем лучше. Структуре образа, искусству метафоры, поэтическому лаконизму и многому другому можно учиться у декадентов130.
Другие же избрали более безопасный путь уточнения размытого принципа. «Учеба у классиков», с их точки зрения, не должна была сводиться к усвоению частных «приемов и методов художественной организации», напротив, она предполагала присвоение «содержания литературной практики, ее существа». Однако присвоение это должно было быть оправданным не только с эстетической, но и с идеологической точки зрения:
Но как в области культурного наследия вообще, – писал в 1929 году А. Михайлов, – мы стоим на той точке зрения, что необходимо использовать элементы старой культуры ради создания новой, так и здесь нужно понимать, что если мы берем элементы предшествующей литературной практики, то именно как элементы, которые в ином сочетании и в соединении с другими элементами дадут качественно отличное – от старого типа или стиля – литературное явление. Поэтому, когда ставится вопрос о том, что конкретно мы должны в литературном наследии использовать, то необходимо не только указание стиля или периода, но и тех моментов, ради которых мы обращаемся к данному стилю131.
Постепенно намечавшийся раскол в среде пролеткритиков обострял вопрос о классовой ограниченности творческой практики классика. Михайлов занял по этому вопросу идеологически выдержанную позицию:
классик неразрывно связан с выдвинувшей его общественной группой, он является наиболее совершенным ее выразителем в идеологическом отношении, и в его творчестве эта идеология оформляется с наибольшим формальным мастерством в пределах стиля, присущего художественной практике данной общественной группы132.
Если следовать предложенной логике, то классик – лишь наиболее последовательный выразитель эстетических установок определенной эпохи, а это, в свою очередь, означало, что «проблема литературного наследия и учебы есть проблема критического усвоения определенных стилей, и классики берутся лишь как наиболее яркие его представители»133. Многообразие стилей в историко-литературной перспективе предполагало постоянную смену усваиваемых пролетарскими писателями черт классики. Из этого следовало, что
дело не сводится к вопросу об одном стиле, как это обычно формулируют <…>. Мы можем и должны говорить о типе и стилях пролетарской литературы как выражениях различных этапов ее развития. При этом, конечно, надо понимать стиль не только как совокупность формальных и идеологических качеств художественных произведений <…>, а как специфическую форму диалектического развития художественного процесса134.
К концу 1920‑х внимание занятых дележкой властных преференций рапповцев к вопросу освоения культурного наследия почти иссякло135, а споры в критике приобрели настолько абстрактный, отрешенный от писательской деятельности характер, что Горький, подытоживая почти десятилетний период развития советской литературы, пошел на осознанное упрощение проблемы «учебы у классиков»: «<…> учиться надобно не только у классика, но даже у врага, если он умный. Учиться не значит подражать в чем-то, а значит осваивать приемы мастерства»