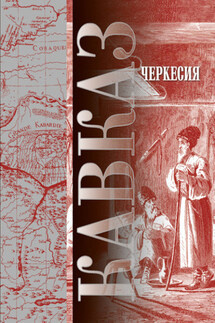Пушкин в русской философской критике - страница 22
Никто не скажет, конечно, чтобы и те вопросы касательно Пушкина, которые внимательно рассматривались в год его столетия, были исчерпаны, но менее всего это можно сказать об эстетической стороне дела, о значении пушкинской поэзии по существу. Поздние пришельцы на роскошное словесное пиршество этого года, вместо ожидаемых – по латинской пословице – костей, к удивлению своему находят лучшее блюдо почти нетронутым. При всей должной скромности, трудно не воспользоваться таким счастливым случаем. Задачу эстетического обсуждения пушкинской поэзии я облегчил для себя тем, что заранее (более двух лет тому назад) рассмотрел с своей точки зрения важнейший из неэстетических вопросов касательно Пушкина, именно вопрос о нравственном смысле той роковой катастрофы, которая прервала земную жизнь поэта, дав ему, впрочем, время для окончательного душевного очищения и просветления.
Этический взгляд, изложенный в статье «Судьба Пушкина»[39] и сводящийся к тому простому положению, что гений обязывает и что кому много дано, с того много и взыщется, вызвал общее неудовольствие и единогласное осуждение в печати[40]. Но мотивы такого неудовольствия относились ко всему, что угодно, только не к тому, что было действительно мною высказано и что осталось совсем не затронутым в многочисленных статьях и заметках, появлявшихся в эти два года по поводу «Судьбы Пушкина». Не имея никакой разумной причины останавливаться на такой «критике» или в чем-нибудь изменять те мысли, которые встретили столько порицаний, но ни одного возражения, мало-мальски относящегося к делу, – я могу теперь, говоря о поэзии Пушкина, не возвращаться снова к вопросу о его личной судьбе. В тех случаях, когда мне придется по естественной связи предметов мимоходом коснуться и этого вопроса, читатели «Вестника Европы» позволят мне предполагать, что взгляд мой на дело им известен и не требует повторительного изложения.
I
Пушкинская поэзия есть поэзия по существу и по преимуществу, – не допускающая никакого частного и одностороннего определения. Самая сущность поэзии – то, что, собственно, ее составляет или что поэтично само по себе, – нигде не проявлялась с такою чистотою, как именно у Пушкина, – хотя были поэты сильнее его. В самом деле, признавать Пушкина поэтом по преимуществу еще не значит признавать его величайшим из поэтов. Сила поэтического творчества может проистекать из разнородных источников, и самое чистое и полное выражение поэзии как таковой может еще и не быть самым сильным и грандиозным. Не тревожа колоссальных теней Гомера и Данте, Шекспира и Гёте, – можно предпочитать Пушкину и Байрона, и Мицкевича.