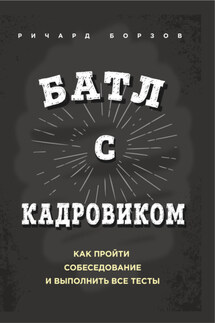Реальность текста - страница 3
Ножик перочинный, перочинный ножик –
Обнаженно-ложна снежность женских ножек.
Перочинный ножик, ножик перочинный –
Вечное мученье чувства без причины.
Жестко и безбожно нежный жест стреножен,
Жертву жжет и режет перочинный ножик.
Ночь, качнув чинарой, чад сочит лучинный,
Призрачен и мрачен ножик перочинный.
Чуткая ресничность стужно жуткой дрожи,
Черная безбрежность – перочинный ножик.
Четкая рациональная схема, в которую укладывается форма стихотворения, рождалась, скорее всего, на ходу, но, рождаясь, подчиняла себе, в какой-то мере, развитие стиха. Это очень хорошо характеризует Менара, вообще не слишком доверявшего мифу о безотчетном вдохновении и сочинении по наитию. Однако это не совсем тот старый соблазн проверить алгеброй гармонию, вывести формулу творчества, формулу любви и жизни. Это, скорее, сама жизнь, свободная игра всех человеческих сил, где в том числе и разум обретает свое настоящее место.
В стихотворении с самого начала задано четырехтактное деление строк (очень условное, конечно, как и всякая схема), и в первых двух двустишиях тема и ее аккомпанемент звучат по четыре четверти. Далее аккомпанемент вырастает до 6/4, то есть полутора строк, переходя из иллюстрации и ассоциации несколько отвлеченной в зачин темы. В последнем двустишии сходятся два аллитерационных ряда, чередовавшиеся ранее: первая строка делится ими пополам, они, дробясь, звучат еще – по четверти каждый – во второй строке и выливаются в тему, образуя уже в какой-то мере ее звуковой каркас.
В качестве подобной игры словами, поэзия, безусловно, представляет собой «невиннейшее из занятий», по выражению Гёльдерлина, и в этом смысле кажется достаточно праздной и беспечной прогулкой по причудливым тропинкам ассоциаций и созвучий, неким развлекающим нас словесным кружевом, которое забавно и занятно, может быть, но, конечно же, – патологически невинно для просвещенного века, не верящего в непорочные зачатия. Но, разумеется, не стоит объяснять, что подлинная поэзия отличается тем, что всегда удивляет самого автора, говоря о чем-то большем и всегда о другом, чем это предполагалось в начале.
Менар обыгрывает звучание обыкновенного слова, раскрывая богатство подспудных звукосочетаний, заставляя это обычное слово звучать ярко и сочно аккомпанируя ему, окружая его звуковой аурой. Он добивается своего, но добивается, причем, видимо, совсем неожиданно для себя, кроме того, и другого результата. Это «самое обыкновенное слово» оказывается не просто набором звуков, некую вещь в предметном мире означающим: бесхитростные забавы с ним, словно джина из бутылки, выпускают на волю целый сонм образов, видений, телесных переживаний – мелькают женские ножки, поднявшиеся на дыбы кони, прохлада ночи и жар огня, страх, томление, ужас перед бездной – это уже не перочинный ножик, а кинжал, и он обрастает образами Юдифь, Гамлета и якобинской диктатуры, горьким возгласом Цезаря: «И ты, Брут», он, помимо нашей воли, вытягивает за собой тысячелетия истории, и это не просто игра воображения, – это память и жизнь языка. И жизнь эта коренится не только в сфере смыслов, в их сплетенности и связности, не только в вербальных реминисценциях. Гораздо более глубока, хотя в силу этого и менее осознаваема власть голоса в языке. Отмечу только, что мои друзья, которым я предлагал задуматься над звучанием слов le couteau de poche, попадали под их очарование, не зная ни французского языка, ни значения слов, ни выше приведенного стихотворения. Воздействие звука довербально и уходит корнями в первобытные – точнее в первобытийные пласты подсознательного, оно выражается в экстазе от ритма ритуального танца, в содрогании от звука скрипки, – «вечное мученье чувства без причины» недаром вырвалось у Менара. В музыкальном творчестве происходит обращение именно к этим глубинным пластам существа человека, музыка обращается поверх – вернее сказать – сквозь все напластования культур и идеологий прямо и непосредственно к основаниям миро-со-стояния человека. В поэтическом же слове эти две стихии – смысловая наполненность и магия звука – слиты нераздельно и таинственным образом коррелированны между собой, благодаря чему поэзия в своем обращении сквозь и через слово к бытийности человека цепляет и всю культуру до самых ее оснований и заставляет звучать весь язык неповторимым ансамблем образов, смыслов и созвучий. Благодаря этому она захватывает нас во всей полноте нашего существования, кидая в бешеные водовороты и вынося в тихие заводи. Именно эти подводные течения в языке и создают, в конечном счете, феномен стихотворения, которое поднимается, таким образом, над собственно эстетикой в сферу мифа, становясь актом жизни, заклинанием, испытанием себя. Поэзия из игры словами превращается в игру с Бытием, с миром, которая и есть жизнь.