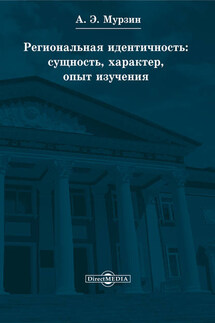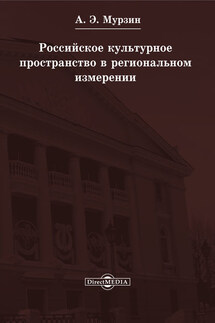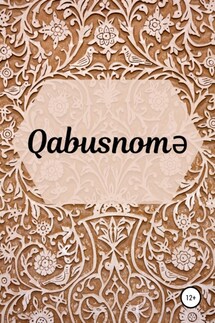Региональная идентичность: сущность, характер, опыт изучения - страница 2
На это обстоятельство обратил внимание Д.Н. Мамин-Сибиряк, характеризуя тип «заводского мастерового», «тагильского мастерка»: «…Вот подстриженные в скобку кержацкие головы, с уклончивым взглядом и деланной раскольничьей ласковостью. Вот открытые лица великороссов-туляков, вот ленивая походка, упрямые очи и точно заспанные лица хохлов…
Но все эти особенности исчезают, переплавляясь в один тип прожженного и юркого заводского человека», – писал он.
В другой статье, развивая тему, писатель утверждал: «Тагильского мастерка вы узнаете из тысячи – это совершенно особый тип, выработанный на бойком промысловом месте. Одним словом – настоящая рабочая гвардия – народ все рослый, здоровый… – встретите – всегда и невольно залюбуетесь. Других таких молодцов не найти. Лица смышленые, движения уверенные» [1].
Кроме этого, есть еще целый ряд широко известных наблюдений людей, посещавших Урал или живших здесь, характеризующих тип уральца. Чтобы лучше понять, в чем им виделась специфичность этого типа, следует помнить, что сравнивать его они могли лишь с образом, олицетворявшим в то время крестьянскую Россию. Такой взгляд диктовался коренным условием бытия горнозаводского Урала.
Начиная с XVIII века, вследствие так называемой петровской индустриализации, край существовал внутри страны (население которой и к началу ХХ века до 90 % составляли крестьяне) в качестве некоего промышленного анклава. «Государство в государстве» – так в конкретный исторический период описывал положение горнозаводского Урала внутри крестьянской России Д.Н. Мамин-Сибиряк. Главную «отрасль» экономики здесь составляла горнорудная промышленность, основной тип поселения – города-заводы. Тут сложилась своя горная система управления, оформилось особое сословие мастеровых.
Не менее разительными были отличия и в духовной жизни края. Не случайно, в последние время аргументировано выдвигает тезис о возникновении на Урале самобытной горнозаводской культуры как особого культурного типа, занимающего промежуточное положение между традиционной народной культурой и культурой индустриального общества. Уральские мастеровые (представлявшие собой к началу ХХ века скорее сословие, чем класс) по многим признакам отличались как от рабочих-пролетариев, так и от крестьян.
В записке, характеризующей хозяйственное и культурно-бытовое своеобразие Урала, подготовленной в 1918 года Временным областным правительством Урала во главе с П.В. Ивановым говорилось об этом так: «Особые условия жизни огромного большинства уральских рабочих отличают Урал от других фабрично-заводских районов. Уральский рабочий, обычно – местный уроженец из бывших заводских крепостных и, работая в промышленном предприятии, связан с его территорией собственным домом, огородом, покосам и т. п. Он является одновременно и рабочим и земледельцем, имеет подчас свой лесной участок или арендует землю. На Урале оставление работ на заводе во время покосов или уборки хлебов – совершенно нормальное явление. Углежжение играет для Урала не меньшую роль, чем добыча каменного угля для южнорусских металлургических заводов. На Урале имеется целая армия углежогов, условия быта которых в лесу чрезвычайно своеобразны. <…> Своеобразные условия труда создались также на Урале в области добычи золота и платины» [2].
Еще в начале ХХ века в ходе широких дискуссий признавалось, что уральский рабочий – «не пролетарий в европейском смысле слова» (Л. Воеводин), что он «со страдой, землей, крестьянскими взглядами» имеет «специфически уральский тип» (А. Митинский). Уральское сознание существенным образом отличалось от традиционного крестьянского, выпестованного общинной жизнью, для которого характерны были ориентация на авторитет, консерватизм форм поведения, почти полное отсутствие проявлений автономности личности. В этом отношении закономерно, что в уральском типе современники в качестве основных черт выделяли такие отличительные черты, как независимость, сметливость, предприимчивость, силу и внутреннюю красоту.