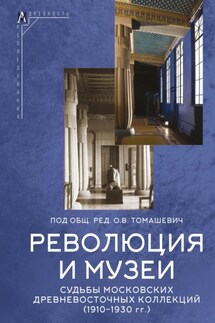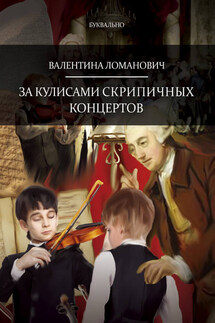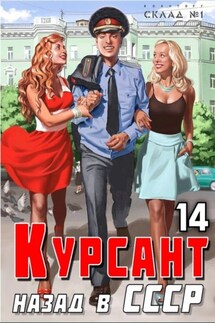Революция и музеи. Судьбы московских древневосточных коллекций (1910–1930 гг.) - страница 7
Они обвенчались 3 июня 1913 г. в Спасской на Песках, что в Каретном ряду церкви (Приложение. Документ 10). В Москве супруги поселились в квартире Сизовых: дом 6 по Большому Спасскому переулку (сейчас Большой Каретный пер.) «у церкви Спаса на Песках, что за Каретным рядом» – т. е. совсем близко от Музея изящных искусств. В 1910-е гг. прямо на квартире Сизовых в двух маленьких комнатках по инициативе Викентьева устраивались выставки «7», причем работы самого Викентьева и его жены вызывали наибольший интерес публики. Таких выставок было по крайней мере три[49]: с 28 по 30 декабря 1916 г. была устроена «Третья выставка „7“. Живопись. Графика»[50], которую посетили многие сотрудники Музея (в частности А. В. Назаревский, Т. Н. Бороздина, а А. А. Сидоров, был ее участником; см. портрет Викентьева из его архива – илл. 1).
В переписке Викентьева мелькают имена антропософов: Т. Г. Трапезникова, Л. Эллиса, А. С. Петровского, супругов Поццо[51], К. П. Христофоровой, Т. А. Бергенгрин (родственницы Сабашниковых). Очень вероятно, что именно в этой среде состоялось знакомство Викентьева с его будущим заместителем по МИКВ, В. И. Авдиевым, увлекавшимся поэзией[52], живописью[53] и новомодными оккультными учениями. Но у последнего были причины скрывать свою вероятную причастность к антропософам, ведь уже в 1923 г. общество не прошло регистрацию и его членами активно заинтересовалось ОГПУ при СНК СССР.
Рис. 3. В. И. Авдиев
Этот круг людей имел много общего с теми, кто был постоянными посетителями и даже насельниками знаменитой «Башни» Вяч. Иванова, его квартиры у Таврического сада в Санкт-Петербурге. Иногда это просто были одни и те же люди: например, Андрей Белый[54], А. Р. Минцлова, та же М. В. Сабашникова[55]. У нас нет свидетельств, что там хотя бы раз бывал и Викентьев, хотя кого там только не бывало по ивановским средам: «крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты» (до 70 человек!)[56]. Кстати, то, что происходило в этой, по выражению Н. Бердяева, «утонченной культурной лаборатории»[57], где идеалом считалось объединение философии, литературы, театра, музыки и изобразительного искусства, во многом напоминало мистерии Штейнера (был даже башенный театр с постановками В. Э. Мейерхольда). Неслучайно в письме к В. И. Авдиеву из Каира от 16.IV.24 сам Викентьев назовет свое «детище» – Музей-Институт Классического Востока, МИКВ – Восточной башней.[58]
В. С. Голенищев в письме 1925 г. из Каира к Вяч. Иванову предполагает его знакомство с Викентьевым (см. ниже)[59].
Переписка свидетельствует, что с 1910 г. В. М. Викентьев принимал деятельное участие в создании и работе Антропософического (Антропософского) общества, а также издании журнала «Вестник теософии». Сохранились интересные документы: билет В. Викентьева в Теософское общество Берлина от 15 ноября 1910 г. за подписью самого Штейнера; черновики писем к нему (с обращением «Hochgelehrter Lehrer und Führer») с просьбами об установлении более тесной «эзотерической» связи и советах; рукопись «Конституции русского Антропософического общества»; недатированное письмо Л. Эллиса, превозносящего учение Штейнера как последнюю надежду русской интеллигенции. Как уже говорилось, в январе 1912 г. в Москве возник кружок для изучения розенкрейцеровской философии (считали ли они его «ложей»?); поразительно, но даже Первая мировая война не положила конец его деятельности. Впрочем, в начале ХХ в. разных кружков было множество и можно было быть членом нескольких сразу. Викентьев полагал, что возглавить такой кружок должен «посвященный ученик Штейнера» (не себя ли он имел в виду?)