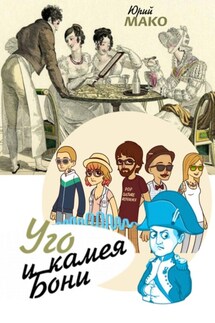Родная партия - страница 9
Вечером девятого марта меня, как настоящего начальника, водитель Леонид отвез домой на черной служебке, почти под руки Виктории Револиевны; женщина нахваливала, что вернулся обратно чистым и безукоризненно вовремя, не отправившись обтирать брюками ресторан: “Андрюша, а почему пропуск в чемодане? Ты что, не доставал его?”. В ответ удалось лишь помычать и угукать – пытался не наговорить лишнего.
Одновременно я вслушивался в каждую деталь. Спасти свое положение можно, если вжиться в роль и быть предельно пассивным. Буду морозиться до конца.
Той ночью я заплакал. Хотелось провалиться в безвестность, перестать ходить в чужой шкуре. Засыпая, держал за руку надежду, что сейчас всё закончится, но утром оказался в той же комнате, в которой уснул. Снова заплакал. Похоже, меня тогда знатно прорвало. Хватило на сутки хождения с кирпичной рожей. День назад меня испепелила американская ядерная бомба. Моя страна сгорела в ядерной войне, подозреваю, что остальной мир хапнул не одну тысячу атомных братишек, и это осознание наложилось на присутствие в чужом мире, в чужом теле и в чужой семье.
Пытаясь облегчить страдания, я взял карандаш и лист со стола, изображая письмо воображаемому другу. По технике, обученной терапевтом, должен был выговориться, а получилось только одно и то же повторяющееся: “Я шиз, я шиз, я шиз, я шиз”.
Виктория Револиевна, увидев меня тогда в слезах, включила суперматеринские чувства: опоила чаем, дала валерьянки, из-за чего я стал траводышащим драконом, наконец, приказала домохозяйке приготовить мой любимый завтрак. Заприметил, что она прямо-таки комфортик, в отличие от “таскателя гантелей”, директора автозавода Григория Озёрова.
– Но сын, ты же с детского сада не плакал, – подперев голову кулачком, она озабоченно рассматривала меня. – Ты сам не свой!
– Свой, – кратко ответил я. Дал себе обещание не быть криповым, а пока всё равно такой для них чужак.
Женщина сильно занервничала от моего ответа, настолько встрепенулась, что прикрыла рукой рот, как будто спросила бестыдное:
– И для папы свой?
– И для него, – ответил я удивленно.
– С Григорием Максимовичем хочу отправиться на дачу в эти выходные. У тебя еж в голове чихает, стоит только упомянуть семейное времяпровождение, поэтому даже не пытаюсь пригласить. Конечно, настаивать не мой конек… но Григорию Максимовичу будет приятно, если сделаешь бюрократический шаг навстречу ему. Если он для тебя тоже свой. Ведь столько всего тебе простил! Андрюша, нужно быть благодарным, у тебя завидная судьба.
С этими словами растроганная Виктория Револиевна ушла в гостиную, что-то приговаривая. Внутри свербило от непонимания. Какой ещё бюрократический шаг? И только потом, когда прилег в комнате с книгой, меня осенило. В ЦК все звали меня Андреем Ивановичем. Не Григорьевичем.
“You’re adopted”, представившийся образ мемного рыжего кота недовольно вякнул в сознании.
Согласно историческому расписанию, в этот же день должен умереть Черненко. И умер, только ночью. В квартире пошло шушуканье. Рядом со мной прекращали говорить, умолкали в секунду. Я почувствовал себя ребёнком, от которого утаивают нечто взрослое. “Отцу” позвонили ночью, и с той минуты он не выходил из кабинета, всё ждал звонка. Никто к нему не заходил, кроме Виктории Револиевны; наконец, он вышел сам и многозначительно произнес:
– Всё.
– Ты поедешь в дирекцию? – Виктория Револиевна встала с кушетки. – Приготовить костюм?