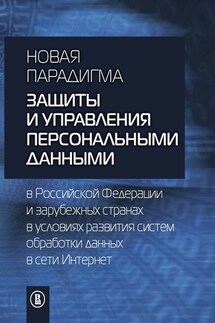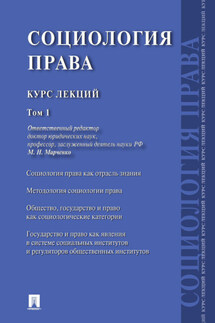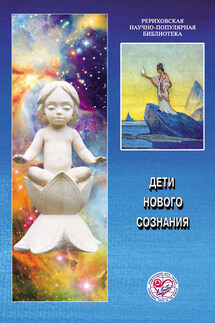Рождённые после Великой Победы - страница 4
И произошло…
Шофёр остановил машину в странном месте: среди абсолютно ровного, чем-то похожего на плац участка поля, которое с одной стороны обступили высоченные деревья, сиротливо стояла одинокая полуразвалившаяся печь, почерневшей трубой пронзающая ярко-синее небо. Эта труба казалась выше окружающих её деревьев, и видно было, что когда-то была она не одна, что такие же, как она, искорёженные остовы изб каким-то образом исчезли с поляны.
Сердце Верочки вздрогнуло и мелко-мелко заколотилось, когда страшная и одновременно спасительная догадка заставила её броситься к стоявшему поодаль деду Ивану и затормошить его, то ли шепча, то ли выкрикивая:
– Это здесь, да? Здесь?! Мамочка моя!
Вера хотела броситься на землю прямо возле одинокой печи, оставшейся от сожжённой фашистами родной деревеньки, но Иван Прокопьевич легонько придержал её за локоть и развернул к дороге. Там, с другой стороны колеи, на поросшем высокой травой едва заметном холмике возвышался скромный металлический обелиск.
– Там твоя мамка, Верочка. Я ведь тоже из этой деревни, дочка, – глухо сказал дед Иван.
Глаза его на мгновение потухли. Он вновь вспомнил тот далёкий день, когда везли его двое боевых товарищей на подводе, раненого, потерявшего много крови и готового уже отдать богу душу. Внезапно один из бойцов остановил телегу, спрыгнул с неё и, подняв что-то с земли, полез обратно, говоря:
– Ничего, Прокопьич, вот, нашёл тебе третью ногу, вылечишься – ходить будешь!
Рядом с Сурковым легла на солому тяжёлая трость с чёрным резиновым кончиком. Не знали солдаты, что неподалёку в рощице лежит ничком наполнивший её жутким содержимым мародёр, убитый выстрелом в затылок свой-чужой, полицай с родимым пятном в виде паука на запястье. Недаром же говорят – Бог шельму метит!
Иван, превозмогая боль, приподнялся, ухватившись за боковину телеги, и огляделся, спрашивая:
– Где мы, братцы?
И вдруг другая боль – огромная, чёрная и страшная, гораздо страшнее, чем боль от ранения, такая, что дышать стало невозможно, – опрокинула его навзничь в окровавленную солому. Там, где они остановились, находилась его деревня. Вернее, то, что от неё осталось. В память потерявшего сознание от боли Ивана Суркова навсегда врезались сгоревшие дотла избы и тянущиеся к небу изломанные силуэты выживших в огне печей…
Позже солдат узнал, что все жители деревни расстреляны фашистами. И там, в братской могиле, осталась его жена. Его любимая Аннушка.
После войны Иван Прокопьевич поселился в Архиповке – деревеньке, расположившейся неподалеку от её, Аннушкиной, могилы. Так и не сумел он справиться ни с душевной болью, ни с прогрессирующей хромотой – последствием ранения.
И прожил бывший фронтовик Сурков без малого три десятка лет вдовцом неприкаянным, закрывшим сердце для любых проявлений чувств, пока не явилась в Архиповку Верочка – учительница с золотистым ореолом кудряшек вокруг лица. Совсем таким же, как у её мамы Ирины, – их соседки из прошлой, довоенной жизни. Помнится, когда деревенские мужики уходили на фронт, как раз была у Иринки крохотная щебетунья-дочка, Верочкой звали…
Теперь дед Иван понял, кого ему смутно напоминала новенькая учительница. Она выросла точной копией своей матери, разделившей общую могилу с Аннушкой.
С того дня, когда Верочка случайно открыла тайну трости, в душе деда Ивана словно прорвались неведомые шлюзы, выпустив на волю лавину спрятанных где-то очень глубоко внутри чувств. И Сурков, до той поры предпочитавший тихонько восседать на скамейке возле дома, созерцая пробуждающуюся ото сна природу, сам словно воскрес, выбрался из анабиоза, куда был погружён всё это время.