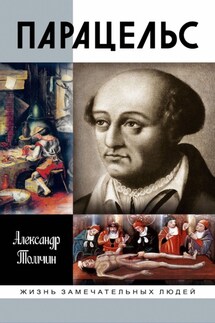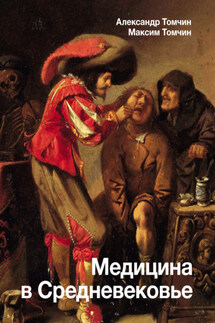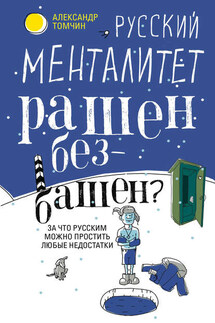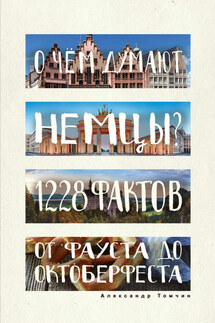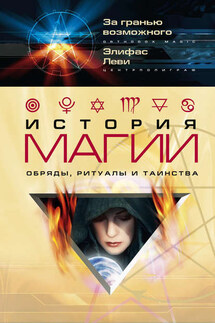Русский менталитет. Рашен – безбашен? За что русским можно простить любые недостатки - страница 4
Для наглядности представим эволюцию как процесс подъема в горы. Ричард Докинз, например, отмечал: маловероятно, чтобы эволюция создавала какой-либо сложный вид или орган (скажем, глаз) одним махом – слишком много удачных мутаций понадобилось бы осуществить одновременно. Но можно достигать совершенства постепенно. Или словами Докинза:
…не надо быть физиком или математиком, чтобы понять: можно до второго пришествия ждать, пока нам повезет и сами собой как-то образуются глаз или молекула гемоглобина. Астрономическая невероятность таких чудес живой природы, как глаза, ферменты, коленные и локтевые суставы, – узкое место не только дарвиновской концепции, а вообще любой теории о жизни, и именно дарвинизм предлагает ответ на этот вопрос. В теории Дарвина невероятные процессы разбиваются на небольшие, доступные восприятию отрезки, необходимое везение распределяется равномерно, предлагается обойти гору Невероятности и шаг за шагом подняться по пологому склону длиною в миллион лет[5].
И конечно, примеров совершенной эволюции великое множество. Сетчатка человеческого глаза, например, может различить единственный фотон в темной комнате. А улитка уха (благодаря чувствительным волосковым клеткам внутреннего уха, вибрирующим в ответ на звуковые волны) способна улавливать малейшие вибрации с амплитудой меньшей, чем диаметр атома водорода. Наши визуальные системы, несмотря на замечательные компьютерные достижения, по-прежнему превосходят визуальные возможности любой машины. Паучья сеть крепче стали и эластичнее резины. В остальном, будучи равноправными, виды (и органы, от которых они зависят) со временем все лучше и лучше приспосабливаются к окружающей среде – порой даже достигая теоретических пределов, как в случае с вышеупомянутой чувствительностью глаза. Гемоглобин (ключевой компонент эритроцитов) великолепно адаптирован к задаче доставки кислорода, настраиваясь незначительными колебаниями у различных видов так, что может загружать и разгружать запас кислорода способами, оптимально соответствующими преобладающему атмосферному давлению, – одним способом для существ, живущих на уровне моря, другим для таких видов, как горный гусь, обитатель верховьев рек в Гималаях. Начиная с биохимии гемоглобина и заканчивая замысловатыми оптическими системами глаза, есть тысячи проявлений биологии, когда она поразительно близка к совершенству.
Но очевидно, что идеал достигается далеко не всегда; вероятность несовершенства становится очевидной, когда мы понимаем, что эволюция достигает не вершины, а горной гряды. Обычно упускается из виду, что для эволюции весьма характерно застревать на точке, находящейся ближе всего к потенциальной вершине, известной как «локальный максимум». Как отмечали Докинз и многие другие, эволюция имеет тенденцию идти маленькими шажками[6]. Если быстрые изменения не способствуют совершенствованию, организм, вероятно, останется на горной гряде, пусть даже какие-то отдаленные вершины и кажутся более привлекательными. Клуджи, о которых я уже говорил, – позвоночник, перевернутая сетчатка глаза и т. д. – примеры того, что эволюция застряла где-то в горах, не достигнув подлинных вершин.
В конечном итоге эволюция не стремится к совершенству. По словам нобелевского лауреата Херба Саймона, это достижение удовлетворительного, достаточно хорошего результата. Результат может быть прекрасным, а может быть клуджем. Со временем эволюция может дать и то и другое: как прекрасные биологические объекты, так и сляпанные наспех, которые в лучшем случае просто функционируют.