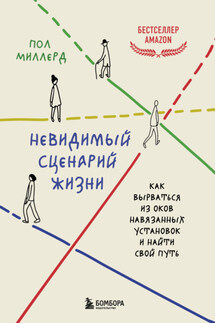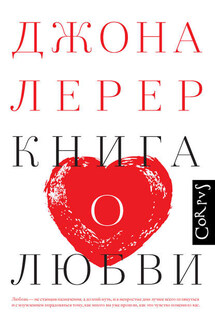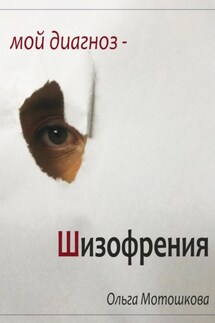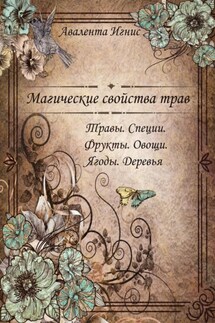С тобой всё в порядке. Как жить, а не выживать с тревожным расстройством - страница 4
«Беги» в современных реалиях вынуждает избегать проблем вместо того, чтобы их решать, и делать вид, что их не существует. Благодаря этой реакции мы больше не сунемся в метро, где настиг приступ паники, сбежим из торгового центра, промолчим и тихонечно уйдем из кабинета начальника. Реакция «замри» отключает все чувства и эмоции, прячет и подавляет их и часто «выбрасывает» нас из реальности. Прекрасные механизмы защиты, так здорово работающие на протяжении тысяч лет, продолжают справляться в моменте, но вредят нам в долгосрочной перспективе. Мы ведь адаптировали их под современный мир, под новую жизнь, мы молодцы, получается. Но, по правде говоря, нам стоило бы иногда поддаться той эволюционной чистой реакции «бей» и как следует наорать на идиотов вместо того, чтобы отправить эту невыраженную злость внутрь себя, тем самым себя разрушая. Нам следовало бы бежать не из метро, а из жизни неподходящих нам людей, бежать от работы, на которой нас унижают, бежать из города, который стал тесным. И «замирать» нам стоило бы иначе. Не отрицать своих эмоций, делая вид, что все окей, а просто отключать телефон, выключать телевизор и замирать по-настоящему, восстанавливаясь после длительного стресса. Нам следовало бы поступать так. Но пока подключится рациональное мышление, амигдала уже все решит за нас.
Один и тот же человек в разных ситуациях может неосознанно выбирать одну из трех эволюционных реакций на потенциальную опасность, но чаще всего в его жизни преобладает одна из них. И самая распространенная – «беги». Мы всегда бежим, когда нам очень страшно. От страха, от темноты, от дискомфорта и неизвестного, от опасного. Бежим за помощью и защитой к своим партнерам, мамам и врачам.
К врачам, которые говорят: «У вас ВСД, с вас пять тысяч».
Вегетососудистая дистония – диагноз, которого нет
В каждой стране постсоветского пространства, в каждом городе в карете скорой помощи ездит она – милая, уставшая женщина-врач с доброй улыбкой и мягким заботливым голосом, раздающая тревожным людям диагноз «вегетососудистая дистония».
Она приезжала и ко мне. Спокойная и уверенная она вошла в ресторан, в котором я «умирала» и сразу все поняла. Поняла, что ее вызвали зря, потому что эта самая дистония – несмертельное заболевание (и не заболевание вовсе). Поняла, что оно не лечится, поняла, что без диагноза я не успокоюсь. И произнесла это эффектно звучащее «вегетососудистая дистония». Не скажи она тогда эти два слова, возможно я бы по сей день лечилась от воображаемых болезней. Услышав это самое «ВСД», я сразу поняла в каком направлении мне копать.
У этого «несуществующего диагноза» довольно интересная история, напоминающая расследование, которое зашло в тупик. В конце девятнадцатого века солдаты гражданской войны поголовно жаловались на одинаковые симптомы: у них периодически жгло в груди, кружилась голова, внезапно начинались одышка, расстройство желудка и появлялось чувство тревоги. Тогда причиной происходящего было выбрано истощение сердца вследствие скудного питания, напряжения и недосыпа. Так появилось первое название этого «диагноза» – синдром солдатского сердца. В середине двадцатого века с этим столкнулись и советские солдаты, но что парадоксально – серьезных заболеваний ни у кого не было. Зато симптомы еще как были. Прямо как у нас. Тогда академик Савицкий пришел к выводу, что происходящее – сбой вегетативной системы. И он оказался прав. Это действительно сбой вегетатики, но все намного сложнее.