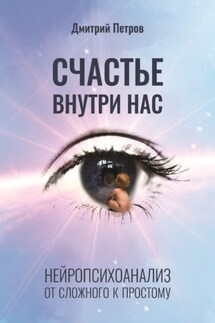Счастье внутри нас - страница 26
А теперь представим второй вариант. Мама молчит. Она может быть уставшей. Раздражённой. Может считать, что всё и так понятно. Или, быть может, сама выросла в семье, где никто не говорил, никто не называл, никто не объяснял – и она просто не умеет иначе.
И тогда ребёнок остаётся наедине с собой. С тревогой. С бессилием. С неразрешённой ситуацией. И он учится. Учится не понимать. Учится обходиться без смысла. Учится, что чувство – это просто что-то, что нужно пережить, затолкать внутрь, проглотить. Это становится опытом. Первым опытом. Он не назван, но записан. Записан телом. Записан психикой. Записан в виде схемы: «чувство возникает – ответа нет – тревога остаётся».
Так в ребёнке формируется тишина. Но не та, что убаюкивает, а та, что отрезает. Эта тишина – пустота между стимулом и ответом. Между тревогой и её пониманием. Между желанием и его принятием. В этой тишине потом будет очень сложно различить: а что я вообще чувствую?
Потому что чтобы чувствовать – нужно быть уверенным, что твоё чувство имеет смысл. А он не родился.
И вот, ребёнок растёт. Ситуации повторяются. Каждый день – маленький эпизод эмоционального романа между ним и его реальностью. Только вот роман может быть написан как на родном языке, где каждое чувство находит своё имя, свою фразу, свою обёртку из принятия. А может быть как абстрактная симфония на неизвестном наречии, где всё звучит, но непонятно.
Появляются слова. Сначала – простые. Потом – осмысленные. Речь начинает формироваться. И тут наступает магический момент: если первые эмоциональные переживания были названы и признаны, они поднимаются из глубины и находят свои слова. «Я голоден», «я боюсь», «я устал», «я злюсь» – это не просто слова. Это якоря. Это ручки на дверях, ведущих в себя.
А если они не были названы – то начинают появляться другие слова. Из фильмов, из улицы, из чужих эмоций. Но они не ложатся. Они не соответствуют внутреннему. Они – как костюм не по размеру. Так формируется ложное «я», поверх нерождённого. Наружное. Обученное. Но не живое.
Вот почему момент, когда мама или папа проговаривает эмоцию за ребёнка – это не просто воспитание. Это акт рождения личности. Когда взрослый говорит: «Ты злишься, потому что тебе сейчас больно» – он не просто объясняет поведение. Он вытягивает чувство из хаоса и даёт ему форму. Даёт ему место в теле. В психике. В жизни.
Именно так формируется то, что в нейропсихоанализе называем вербальной личностью. Не просто «говорящий человек». А человек, который может сказать о себе, своим голосом: что он чувствует, чего он хочет, что с ним происходит. Вербальная личность – это внутренний свидетель, который не осуждает. Это внутренняя мама, внутренняя фигура, которая слышит и называет.
Именно она – та, кто однажды, спустя годы, в критический момент сможет сказать: «Мне больно, но я справлюсь». И это будет не просто фраза. Это будет голос зрелой психики. Сформированной когда-то в тот момент, когда мама сказала: «Ты расстроился, потому что я забрала игрушку. Я сделала это, чтобы ты лучше поспал. Я тебя люблю».
Именно это – когда ребёнок может назвать то, что с ним происходит, – и является финальной стадией становления вербальной личности. Это не просто формальное освоение языка, не просто набор слов и предложений. Это, прежде всего, внутренняя структура, в которой инстинкт, чувство, тревога, опыт, память и смысл соединяются в одном акте понимания и произнесения: «Я боюсь». В этой фразе уже есть субъект. Уже есть «я», отделённое от эмоции. Есть рефлексия, есть пространство между стимулом и реакцией. Есть внутренняя дистанция, необходимая для осознанности.