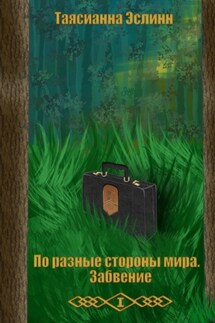Семья как быт и бытие в истории и жизни - страница 17
Естественнее всего считать ранние человеческие сообщества основанными именно на патриархальной – впрочем, может быть, матриархальной – семье. Важным здесь является не порядок счета родства – «по маме» или «по папе», а структурно-функциональный состав этой семьи: родители, их дети, возможно, и внуки, а также, возможно, некоторые «прибившиеся» боковые родственники. Вполне возможно допустить в качестве базы такой семьи моногамную пару. Впрочем, наверняка можно говорить и о распространенности полигамии: во-первых, о ней много древних свидетельств и, во-вторых, она в большей степени, чем полиандрия, объяснима естественными причинами: если в обществе и возникает дисбаланс полов, то, как правило, в сторону перевеса женщин и нехватки мужчин. Если же обсуждать возможность широкого распространения различных вариантов группового брака, то надо сказать, что вряд ли такое сообщество (считая детей) могло бы ограничиться группой в 15 человек.
Мыслить в качестве главы первобытной семьи женщину в принципе возможно, но вряд ли уместно. Исчисление рода по женской линии, подобно племенам Океании и индейцев Северной Америки, знали в свое время и семиты, и арийцы, и славяне, и германцы, и прочие народы, следы чего сохранились в народном эпосе, в памятниках древней письменности и права, однако речь идет именно о матрилинейности, но не о матриархате. Причем причины матрилинейного рода вполне можно найти, вовсе и не предполагая первобытного промискуитета, когда известна только мать, но не отец.
Дело в том, что, как показывает тот же Бронислав Малиновский на примере изучаемых им жителей Тробианских островов, а также ссылаясь на исследования коллег, люди примитивных культур очень часто только смутно осознают связь полового акта и зачатия>18. Точнее, роль половой жизни сводится ими только к «распечатыванию» женщины, которая вследствие этого делается способной к тому, чтобы «балома», дух предка, вложил в нее «ваивайа», духовный зародыш ребенка. «Поэтому влагалище женщины, часто вступающей в половую связь, будет более открытым, и ребенку-духу легче войти в него. Та же женщина, которая остается совершенно целомудренной, будет иметь намного меньше шансов забеременеть. Но совокупление совсем не обязательно, оно лишь механически способствует. Вместо него может быть использован любой другой способ расширения прохода, и если балома пожелает вложить ваивайа или таковой сам захочет войти внутрь, то женщина забеременеет»>19. Причем искренность этого представления подтверждается тем, что муж, отсутствовавший год или два нисколько не удивляется тому, что у его жены родился ребенок, радуется ему как своему, то есть вовсе не видит причин в чем-то упрекать жену и сомневаться в своем отцовском праве: мужчина ведь в зачатии не участвует.
Это означает, что в понимании этих племен просто отсутствует телесное родство мужчин с детьми. Отсчет родства по мужской линии невозможен, но не потому что любой мужчина может считаться причиной рождения ребенка, а потому что никто из мужчин, по их мнению, напрямую таковой причиной не является. Тем не менее, Малиновский описывает у тробианцев вполне моногамную семью (с большой, правда терпимостью к добрачным связям) и отмечает очень тесную связь отца с детьми. Только эта связь имеет не кровно-телесную подоплеку, а чисто духовную, нравственную основу в супружеском единстве отца и матери. «Таким образом, именно тесная связь между мужем и женой, а не представление – каким бы смутным и далеким от реальности оно ни было – о физическом отцовстве, оправдывает в глазах туземцев все то, что отец делает для своих детей»