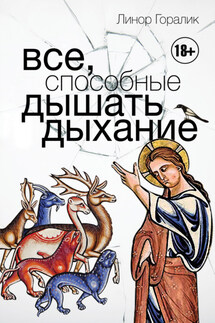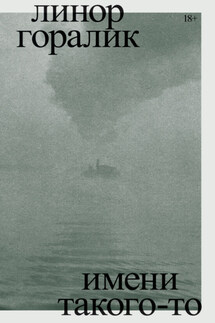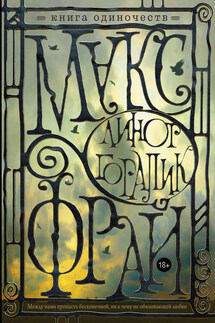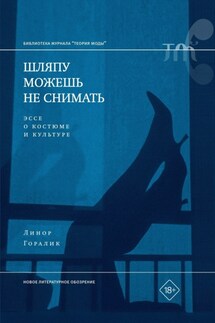Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - страница 14
Влияние же материального положения, в котором участники опроса находились в том же году, оказывается менее однозначным. С одной стороны, были люди, безусловно довольные своим костюмом в силу возможности доставать качественные и модные вещи: «…мама [—] бывшая спекулянтка <…> Наша семья в основном общалась с людьми своего круга. Т. е. опять же все были одеты из „Березки“. <…> Все, о чем мечтала, да и мечтаю, всегда становится реальностью»; «…мечта не расходилась с реальностью; ощущала себя самой красивой, мне завидовали» (папа респондентки регулярно привозил вещи из‑за границы). С другой стороны, далеко не всегда те, у кого были деньги и кто мог позволить себе покупать вещи у спекулянтов, пользоваться магазинами наподобие «Березок» или даже выезжать за границу, поминают свой костюм образца 1990 года добрым словом15. Дело тут не в эстетических критериях, а все в той же необходимости добывать, выискивать, почти всегда соглашаться на вещь не потому, что она нравится, а потому, что ее можно приобрести. Кроме того, в отличие от линейного понятия возраста, нелинейное понятие «материальной обеспеченности» в 1990 году стало особо зыбким: появились как люди, потерявшие источники дохода, так и те, кто впервые в жизни неожиданно приобрел деньги, превышающие прожиточный минимум, и мог позволить себе тратить их на одежду. К этой категории относились, например, ранние предприниматели-кооперативщики и полузаконные предприниматели всех сортов, а также представители некоторых профессий, которым открытие железного занавеса дало шансы на новую жизнь: так, одна из участниц опроса, художница, пишет: «…у нас вдруг стали покупать картинки – сперва отъезжающие за границу, а потом и местные коллекционеры, намеревавшиеся устроить какой-то музей. Это важный момент: людей, у которых вот именно в эти годы после долгой нищеты вдруг завелись деньги – при том, что образ жизни и круг общения совершенно не переменились, было, наверное, не очень много. То есть это более-менее специфический опыт». Иногда человек оказывался «модником» в результате чистейшего счастливого случая, без усилий со стороны носителя костюма. В таком случае результатом изменения статуса становились не только радость, но и недоумение: «…кроме того, как раз в 90‑м родители съездили в Америку и привезли оттуда, кажется, несколько чемоданов всяких тряпок, себе и мне. В Штатах в том году носили изумрудно-зеленое, и в результате изумрудно-зеленым у меня оказалось все: от рюкзака до варежек»; «…никогда не интересовалась тряпками, но тут сестра съездила во Францию и привезла кучу всего, и оказалась в центре внимания…». У тех же, кто в 1990‑м не нашел новых возможностей для приобретения вещей, разговор о значении одежды иногда вызывает реакцию отторжения, едва ли не неуместности самого вопроса: «Как-то у меня нет ощущения, что мы в тот момент ели нормально…»; «Было чувство, что живем в глубокой заднице, жрали макароны и картошку, примерно так же жили и все остальные ребята из нашего класса, поэтому одежная неполноценность не ощущалась». Даже те из представителей этой группы, кто, наоборот, сообщает о значимости одежды в 1990 году, говорит об этом как о травматической составляющей личного самоощущения. Так, одна из участниц опроса в перечислении предметов своего гардероба в том году ставила в конце некоторых пунктов пометку «(страдала)»: «…какие-то немецкие юбки (страдала) <…> купальник был вязаный белый (опять страдала)…» Эти ощущения явно были неприятны настолько, что вызывали активное желание их забыть: «…помню духи, может быть, и то, что это были ужасные времена остальные ужасы память услужливо стирает»; «…ужасные времена. Не хотела бы сейчас одеваться так, как одевалась тогда»; «Как хорошо, что те времена закончились!». Особенно мучительно переносили предельно выросшее значение костюма как маркера социального статуса те, кто в тогдашней бедности оказывался одним из немногих представителей более обеспеченного класса и был вынужден «соответствовать» (слово, встречающееся по крайней мере в десятке полученных мной интервью, часто даже без дополнения, как имеющее самоочевидный референт: «Хотелось соответствовать»; «Было нужно соответствовать»: «…в музыкальной школе меня „ставили на место“ девочки из семей, где папы ездили в заграничные командировки. Сейчас я понимаю, что они над моей одеждой издевались <…> Мне почему-то казалось, что [они] сами по себе прекрасные, мне хотелось с ними дружить, гулять, мне в голову не приходило, что, оденься я так же, буду не хуже их».