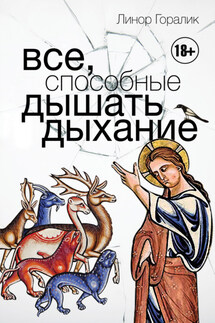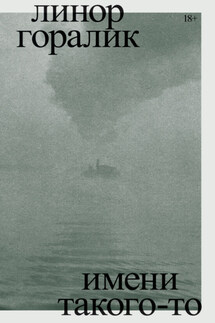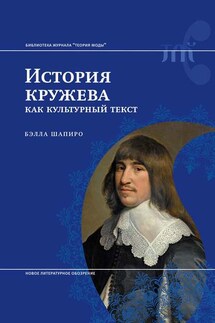Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - страница 2
Двойственная эмоциональная окраска большинства услышанных мной воспоминаний крайне характерна (это, вероятно, будет прослежено и в других материалах данного номера) для воспоминаний о 1990 годе в целом: в этих нарративах, за редкими исключениями, нет ни однозначной ностальгии, ни однозначного неприятия: «Эх, было время! Вспоминать не хочется, но было и весело тоже». Амбивалентное отношение, как будет видно из дальнейшего материала, распространяется почти на любой аспект темы «одежда 1990 года»1: от значений одежды до возможности одеваться по желанию, от свободы в выборе костюма до «парадной формы». Такая двойственность образует поразительно точную рифму к двойственности, а то и к множественности смыслов, возникшей в тот момент в другом языке: языке самой одежды.
Отталкиваясь от часто применяемого в теории костюма подхода к наряду (outfit) индивидуума как к высказыванию, которое интерпретируется другими в рамках «языка костюма», общего для всех представителей данного среза социума (с очевидными оговорками касательно социального слоя, географической общности и ряда других параметров), можно говорить о том, что самым ярким, на мой взгляд, явлением в языке костюма 1990 года оказывается эффект «вавилонской башни», возникший почти на всем позднесоветском пространстве2.
Этот эффект возник в первую очередь по причине нарушения логики и временного цикла бытования одежды на всех социальных уровнях. Во-первых, традиционный для Советского Союза дефицит и связанные с ним практики ношения и приобретения одежды в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов приобрели крайние формы. В результате люди практически потеряли возможность следовать принятым и допустимым в той или иной среде вестиментарным нормам, совершать привычное «высказывание» на языке костюма. Во-вторых, новые источники приобретения одежды (например, увеличение числа тех, кто совершал поездки за границу) и новые ориентиры в моде (иностранные фильмы и телесериалы, распространившиеся в СССР западные каталоги готовой одежды – такие, как Otto и Neckermann, – и одежда тех же «выездных») привнесли в язык позднесоветского костюма принципиально новые средства выражения, которые часто фетишизировались и подвергались непредсказуемому переосмыслению по сравнению с исходной средой бытования. Эти «знаки новой одежды» были редки, им приписывалось особенно высокое значение.
В-третьих, в конце 1980‑х годов в СССР происходила «ползучая» отмена униформы. Постепенное ослабление неписаных требований к одежде в целом ряде областей социальных практик (отмена школьной формы; ослабление категорических требований к костюму на целом ряде предприятий; появление общественных деятелей-«неформалов», нарушавших все правила внешнего вида и поведения, ранее обязательные для «застегнутых на все пуговицы» советских функционеров) привело к резкому расширению возможностей языка одежды в тех областях советской жизни, где он был априорно редуцирован. Однако одновременно шел и противоположный процесс: терялись или размывались значения элементов одежды в случаях, в которых до того костюмные коды считывались совершенно автоматически, были привычными и понятными.
В-четвертых, стремление к свободе, к самостоятельному высказыванию в костюме (к этому, как и к любому проявлению нонконформизма, в советские годы относились крайне настороженно) привело в конце 1980‑х годов многих людей к проявлению большей индивидуальности в одежде, зачастую – подчеркнутому, даже вызывающему.